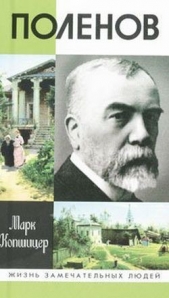«То было давно там в России»
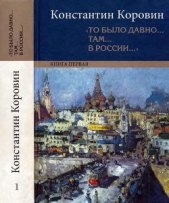
«То было давно там в России» читать книгу онлайн
«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.
Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.
В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Смотри-ка, отец дьякон, вон на мосту кто-то остановился, — крикнул из воды дачник. — Поди, думает, что баба с нами купается. Волос у тебя бабий…
Одеваясь, он весело спросил нас:
— Господа — студенты или ученики какие будете?
— Мы — художники.
— А, художники! Очень приятно. Значит —
И дьякон раскатисто засмеялся:
— Позвольте, господа художники, просить пожаловать в гости к Кутейкину. Разносол и всякое такое, после купания. В утробу человеческую влезет без затруднения, даже с приятностью феноменальной… Прошу без отказу. Художество я люблю… Даже «Ниву» [354] выписываю.
У отца дьякона дома было уютно и чисто.
Дьяконица и дочь его — скромные красавицы. Стол накрыт в саду под яблоней. Рядом — пчельник и малинник. А на столе, у самовара, графин водки, полынная-осиновка, закуски, маринованная щука, грибы, пирог с капустой, с морковью, творожники, китайские яблочки, варенье разных сортов. Дьяконица разливает по рюмкам водку.
— Художникам милейшим налей, — говорит дьякон. — Выпьем с ними — самый веселый их народ…
— Не пьем, — отвечаем мы с Левитаном.
Дьякон изумился:
— Как так? Художники не пьют? Батюшки… В первый раз слышу. Я-то художников знавал… Я здесь с ними рыбу ловил, так четверть обязательно кончали.
— Удивление, — подхватил один толстенький дачник. — С отца моего один художник тоже портрет списывал. Нужен был папаше в контору: он сорок лет бухгалтером состоял… Так папаша мой того художника до чего любил, и уж пили они вместе, ужас! Пишет он его, и пьют оба. И заметьте, как верно списал. Ну, прямо видно, что выпивши… Конечно, про покойников неладно говорить, но глядеть на портрет — прямо видать, пьян! Художник по фамилии Волков. Здоров писать был! Только помер молодой… Говорили про него, что таланта в нем вот сколько, если бы жил дольше, то был бы Рафаэль прямо, не иначе.
Смерть отца
Как хороша жизнь! Осенний день, небо сине-прозрачное, листва — липы и серебристые тополя — покрыты золотым блеском. Воздух уже холоден. Рано утром прилетели откуда-то стаи крошечных птах и заполонили сад, около которого я живу в Москве — в Сущеве. Птахи слетаются в веселые стаи и болтают друг с дружкой без умолку. Вдруг, словно по приказу, поднимутся разом и исчезнут далеко в небе…
Напротив сада, у пожарной части, на солнце, пожарные вычистили сапоги и расставили их по лавочкам — сами ходят босиком.
Я сижу у окна, в доме старого генерала в отставке и пишу картину по его заказу. А он расположился сзади — белый как лунь, в прокуренной военной тужурке, попыхивает трубкой и указывает мне, как писать:
— Мой юный друг, здесь сделайте гору и на ней замок!
Я пишу, а генерал подбадривает:
— Вот-вот, отлично. Здесь — лес, большой лес. Это Шварцвальд!
Генерал — из немцев. Нет-нет, помолчит и вздохнет:
— Мейн Гот [355]…
А то наклонится к большому, стоящему на его чудесном письменном столе фотографическому портрету императора Александра II в рамке, посмотрит на него и умильно скажет:
— Вот это человек, царь наш… Мейн Гот!..
Когда я окончил картину, генерал одобрил:
— Хорошо! Как раз то, что я хотел… Потом будем с вами море писать. Но я сам фрегат пририсую — военный… А вы вперед дым напишете. Это будет бой в море… Мейн Гот!
Он передал мне гонорар в большом запечатанном конверте. Я вышел с ним на дворик, окруженный заборами. Все на этом дворике было необыкновенно чисто, к тому же выкрашены в один цвет — и стена дома, и забор, и собачья будка. Из будки вылез огромный пес на цепи, невероятно лохматый, и нехотя на меня залаял. Собак я люблю, и мне захотелось погладить генеральского пса. Генерал вскрикнул:
— Что вы, он — злой!
Я все же приблизился, и собака легла, ласкаясь, на спину.
— Странно, — недоумевал генерал. — Все время бегает по веревке на кольце, сторожит меня от воров. А как ласков с вами! Сам подходить боюсь…
Но только я отошел, как, весь вытянувшись на цепи, пес стал на меня бросаться, лязгая зубами.
Гонорар в двадцать пять рублей был для меня большой радостью: я поспешил к отцу в больницу, чтобы взять его домой: он уже был плох в то время… Я надел отцу башлык на голову, завернул его в пальто, посадил с помощью больничной прислуги на извозчика, и мы поехали домой. Лицо отца было мертвенно-бледно, я едва удерживал его подле себя. Видно было, что ему трудно сидеть…
Дня через два я ушел на охоту в Перервы, под Москвой на Москва-реке. Чудесно было в природе. И сколько дичи! Я стрелял куликов, уток. Тут же в береговые капустники влетали дупеля… Вскоре из моего ягташа стали выглядывать их головки с длинными носами.
В вагоне железной дороги какой-то пассажир спросил, не продам ли я ему дичь.
— Ни за что!
С Курского вокзала я возвращался пешком: на мне было ружье и пороховница на зеленом шнуре. Меня с любопытством оглядывали прохожие, и это мне нравилось. В Сущеве из здания гимназии толпой высыпали молоденькие ученицы; иные посматривали на меня не без удовольствия. Я шел словно не по земле… И все поднимал плечи. Чувствовал себя героем… Ах, эти встречные девушки! Боже, как они мне нравились! Я был влюблен во всех без разбора. Они казались мне богинями…
А ночью меня разбудила мать:
— Костя, встань, отцу плохо… он умирает…
Я привстаю, смотрю в упор на мать, не видя… и непонятная сила усыпляет меня опять.
— Костя, Костя… — будит снова мать, но я никак не могу подняться — сон одолевает. И вдруг вижу во сне: стоит около отец на коленях и пристально смотрит на меня:
— Костя, ты не пришел проститься! Прощай!
И постепенно исчезает, как-то уносится дальше, дальше, дальше…
— Куда ты? — спрашиваю с изумлением.
А он уже издалека отвечает:
— Прекрасная тайна. Вечность.
Тут я сразу проснулся, вскочил на ноги и пошел к отцу. У постели я увидел жалкую фигуру матери на коленях. Она обвила руками его голову, и лицо ее было прижато к его лицу. В вытянутые уже руки отца была вложена иконка. Я бросился к нему, стал ощупывать его руки, грудь — он был неподвижен. Я начал целовать его глаза, шею… — Он был еще теплый, но неужели мертвый? Я бросился в кухню, схватил полотенце и, облив водой, клал ему на сердце — вдруг поможет, вдруг жив!
Но отец оставался белым как воск и не дышал.
Мать держала лампаду и читала: «Придите ко мне все страждущие…» Я побежал к доктору-соседу. Тот наспех оделся и пошел со мной. Помню, как он прикладывал голову к груди отца, долго слушал. Потом в дверях показался священник с Дарами, за которым послала мать. Доктор положил мне руку на плечо и сказал:
— Мальчик, не плачьте. У вас больная мать, пожалейте ее. Отец ваш должен был умереть еще в прошедшем году. Сердце у него устало. Умерло сердце.
Я сунул в руку доктора три рубля. Но он не взял, надел галоши в передней и ушел… Так оборвалась последняя моя надежда.
Мать отчего-то не плакала. — А я прикладывался лбом к холодному стеклу окна и лил слезы. А за окном заря занималась, наша русская тайная заря…
Новый, тяжкий день начался… Отца больше нет. Вот он лежит на столе. Горит одна большая восковая свеча, и старая монашка что-то читает, не поймешь — что.
Я сижу на кровати, в той же комнате, — мне виден профиль отца: глубоко впали глаза с длинными ресницами. Но хорошо мне, что отец, хоть пусть и мертвый, около меня. Я так люблю его! И монашку, которая читает, и даже самую смерть люблю в эти минуты умиленной нежности. Но, Боже мой, как странно все и непонятно в жизни! Зачем все эти тайны? Какое огромное в них величие. Чувствую, но не постигаю, и сердце полно недоуменной любви.