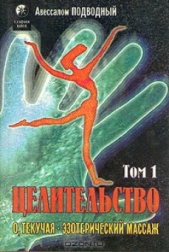Авессалом, Авессалом !

Авессалом, Авессалом ! читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
-- Итак, ты с этой старушенцией, тетушкой Розой, поехал туда в ту ночь, и старая негритянка Клити пыталась остановить тебя и остановить ее; она взяла тебя за руку и сказала: "Не пускайте ее наверх, молодой господин", но и ты тоже не смог ее остановить, потому что она была сильна своей ненавистью: ведь сорок пять лет жить ненавистью -- все равно что сорок пять лет питаться сырым мясом, тогда как Клити могла ей противопоставить всего лишь сорок пять -- пятьдесят лет ожидания и отчаяния, а ты вообще не хотел туда ехать. И ты тоже не мог ее остановить, и вдруг ты понял, что Клити обуял не гнев, не подозрительность, а просто страх, ужас. И она не сказала тебе об этом прямо, словами, потому что все еще хранила эту тайну ради человека, который был и ее отцом, ради семьи, которой уже больше не существовало, чей и доныне несокрушимый отвратительный мавзолей она по-прежнему стерегла, -- она сказала тебе об этом не больше, чем о том, что делала в тот день, когда принесли тело Бона и Джудит вынула у него из кармана медальон со своим портретом, который она ему подарила; она не сказала тебе этого прямо, словами, это просто вырвалось от ужаса и страха, когда она отпустила тебя и схватила за руку тетушку Розу, а тетушка Роза повернулась, оттолкнула ее руку и двинулась к лестнице, и тогда Клити опять бросилась к ней, и на этот раз тетушка Роза остановилась на второй ступеньке, повернулась и сбила Клити с ног кулаком, -- не хуже мужчины, повернулась и пошла по лестнице вверх, а Клити осталась лежать на полу -восьмидесятилетняя старуха, едва ли пяти футов ростом, она была похожа на связки чистых тряпок, и тут ты подошел, взял ее за руку, помог ей подняться; рука у нее была как тростинка, легкая, сухая и хрупкая, как тростинка; она посмотрела на тебя, и ты увидел на ее лице не ярость, а страх, но не такой страх, какой бывает у черномазых; ведь она боялась не за себя, а за нечто, что находилось наверху и что она уже почти четыре года там прятала; она не выразила этого в словах, потому что даже в страхе сохраняла тайну, и все же она тебе это сказала, или, во всяком случае, ты вдруг все понял...
Шрив снова замолчал. Впрочем, это не имело значения -- ведь у него не было слушателя. Возможно, он это сам понял. Потом внезапно у него не стало и рассказчика, хотя этого он, возможно, и не понял. Ибо теперь никого из них там больше не было. Они оба были в Каролине, и было это сорок шесть лет тому назад, и теперь даже не вчетвером -- теперь их стало даже больше, -- теперь они оба стали Генри Сатпеном, и оба стали Чарльзом Боном, и в каждом слились эти двое, хотя ни один из них не был ни тем, ни другим; они даже слышали запах дыма, который сорок шесть лет назад поднимался, постепенно растворяясь в воздухе, {дыма костров на бивуаке в сосновой роще; вокруг костров сидели и лежали изможденные оборванные люди; они говорили не о войне, но, как это ни странно (а может, это вовсе и не странно), все они сидели лицом к югу, -туда, где поодаль стояли в темноте полевые караулы, караулы, которые, глядя на юг, видели сиянье и мерцание костров на бивуаке федеральных войск -мириады слабых огоньков, охвативших чуть ли не половину горизонта, -- десять костров на каждый костер конфедератов, и между ними (между караулами мятежников и кострами янки) были расставлены сторожевые отряды янки; они тоже вглядывались в темноту; линии тех и других караулов располагались так близко, что и те и другие слышали оклики офицеров противника, обходивших посты; когда офицеры удалялись и их голоса замирали вдали, кто-то невидимый осторожно, негромко, но очень внятно произносил:
-- Эй, бунтовщики!
-- Чего тебе?
-- Вы куда идете?
-- В Ричмонд.
-- И мы туда. Может, вы нас обождете?
-- А мы что делаем?
Люди, сидящие у костров, не слышат этой беседы, но вскоре до них явственно доносится голос вестового, который ходит от костра к костру в поисках Сатпена; ему указывают, куда идти, так что он наконец добирается до костра, до тлеющего бревна, продолжая монотонно твердить: "Где Сатпен? Я ищу Сатпена", и Генри наконец встает и отзывается: "Здесь". Он изможден, оборван и небрит; из-за последних четырех лет и из-за того, что, когда эти четыре года начались, он еще не перестал расти, и теперь он на два дюйма ниже, чем обещал быть, и на тридцать фунтов легче, чем, вероятно, будет через несколько лет после того, как он эти четыре года переживет -- если, конечно, он их и впрямь переживет.
-- Здесь, -- говорит он. -- В чем дело?
-- Тебя полковник требует.
Вестовой его не сопровождает. Он идет один в темноте по дороге, изрытой и изрезанной ухабами и колеями, где днем проезжали пушки, и в конце концов добирается до палатки, до одной из немногих палаток; сквозь парусину слабо светится горящая внутри свеча; у входа маячит расплывчатый силуэт часового, который его тотчас окликает.
-- Я Сатпен, -- говорит Генри. -- Меня полковник вызвал.
Часовой пропускает его в палатку. Входя, он нагибается, парусина падает на место, и в эту минуту кто-то, единственный находящийся в палатке человек, встает с походного стула из-за стола, на котором горит свеча, и по парусиновой стене поднимается его огромная высокая тень. Он (Генри) подходит и отдает честь; он видит серый рукав с полковничьей нашивкой, обросшую бородою щеку, торчащий нос, свисающие со лба космы, седеющих волос; он не узнает это лицо -- не потому, что четыре года его не видел и не ожидал увидеть его здесь сейчас, а потому, что просто на него не смотрит. Он отдает честь нашивке на рукаве и стоит смирно, пока тот, другой, не произносит:
-- Генри.
Однако даже и теперь Генри не трогается с места. Он стоит, как стоял, они оба стоят и смотрят друг на друга. Первым идет вперед старший, они сходятся посередине палатки, обнимаются и целуются еще прежде, чем Генри осознает, что он тоже шагнул, собирался шагнуть вперед, движимый голосом крови, который мгновенно снимает и примиряет разногласия, хотя еще и не прощает (а может, никогда и не простит); потом он снова останавливается, а отец смотрит на него, обеими руками повернув к себе его лицо.
-- Генри, -- произносит Сатпен. -- Сын мой. Потом они сидят на стульях, предназначенных для офицеров, по обе стороны стола, на котором горит свеча (и лежит развернутая карта).