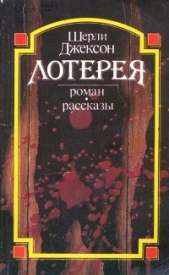Без игры
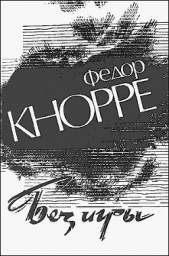
Без игры читать книгу онлайн
Творчество известного советского писателя Федора Федоровича Кнорре хорошо известно читателям по его большим повестям: «Родная кровь», «Каменный венок», «Одна жизнь», «Весенняя путевка», «Шорох сухих листьев», «Рассвет в декабре» и многим рассказам.
В настоящую книгу включены три новые повести писателя о людях сегодняшнего дня: «Без игры», «Папоротниковое озеро» и «Как жизнь?..». Острый сюжет, присущий большинству произведений Ф. Кнорре, помогает писателю глубоко раскрыть внутренний мир наших современников, гуманный строй их чувств и мыслей. Большой эмоциональной напряженностью отмечены в этих повестях столкновения самобытных характеров героев, очень непросты и трудны их судьбы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для Афони с самого начала плавания было изготовлено такое сиденье, поместившись на котором он удобно мог управляться со штурвалом. Теперь, умоляя только не бесноваться и не лезть на рожон, его едва уговорили надеть Митин китель и заранее занять место в ходовой рубке. Он сидел и чуть зубами не щелкал от ненависти и унижения, когда Митя прицеплял ему на грудь свою колодку с двумя орденами и пятью медалями. До этого момента не только Афоня (которого неудачливая его судьба не наградила ни одним орденом), но и Наташа никогда этой колодки не видели.
Капитан Водолеев первым спустился по трапу, так что сразу стало заметно — второй, человек с папкой под мышкой, его подчиненный.
— Мы работать должны, — сказал Митя. — Поговорим на ходу?
Сняли трап и отдали оба швартова. Афоня скомандовал: „Тихий вперед!“ — и стал выводить буксир из портовой сутолоки к дальнему причалу.
Водолеев рассказывал анекдоты, оттягивал время... видно, не был уверен, что сработала его предупредительная записка. Шутил с Наташей.
— Я, знаете, избегаю ходить по пустынным улицам в темное время. Очень уж у меня рожа! Люди пугаются! — В то же время он внимательно следил, как работает за штурвалом Афоня.
Когда, отбуксировав баржу с железным ломом, уже шли обратно к причалу, Водолеев заглянул в рубку, протянул руку Афоне:
— Ладно управляешься по хозяйству. Как звать-то?
— Афонька! — буркнул Афоня, злобно стискивая изо всех сил протянутую руку.
— Витя!.. Будем знакомы, — усмехнулся капитан Виталий Водолеев. — Лапочки у тебя ничего, Афоня! Ну, будь. Все в порядке.
Снова они оказались на своем необитаемом острове, снова от порта к порту изгибами Волги бежал, пофыркивая стареньким двигателем, „Муравей“. Все стало как прежде, только скоро Митя заметил, что она больше никогда не поет. И никогда он не спрашивал ее, почему она перестала петь. Он знал почему. Ему очень нравилось, как она поет. Но ведь ему и все нравилось в ней. И в этом не было ничего особенного. Она была его. И лицо, и улыбка, и ноги, и слова — все было его. Он был счастлив этим, ведь он ее любил и она его любила. Но только после того душного и пыльного вечера в Астрахани, после встречи с хриповатым микрофоном что-то в ней стало не его. Он не мог позабыть загрубелые, обожженные солнцем лица широкоспинных матершинниц с чугунными икрами, баб, вынесших на своих плечах всю войну, портовых грузчиц, и то, с какой благодарной доверчивостью не отрывали они от нее глаз, когда она пела. Они плотно сидели всей бригадой в первом ряду, застыв, позабыв сплевывать семечковую шелуху, когда пела она им про полную сердечных замираний и трепетных предчувствий, нетронутую, чистую любовь, о которой много слышали, они песен и которой совсем не досталось на тяжелую их военную долю...
В Ярославле их поджидал пианист-аккомпаниатор из Астрахани, точно вестник надвигающейся беды. Они и встретили его, как тайного разведчика, подосланного врагом. Кое-как тогда отделались от него и, оставив его на причале, ни разу не вспомнили о нем вслух. Потом оказалось, что он уже дожидался их в Москве.
Прошли и кончились дожди, подули злые, сухие ветры, после которых по береговой кромке в заливах уже белел ледок.
Все шло к концу, неотвратимо кончалось для всех. И для моряка Афони с последним рейсом пришла к концу чудом подаренная ему судьбой передышка: маленький штурвал в руках, послушный ход суденышка, ветреный простор большой воды, крики чаек за кормой, горячий дух машинного отделения, ночные гудки при приближении встречных сигнальных огней — все почти игрушечное по сравнению с потерянным им навсегда океаном. Но после бездонного и грязного отчаяния, мотания по шалманам — это послужило ему великим отрезвлением, переходом к новому, пусть нерадостному и неясному еще, уравновешенному существованию.
Маленький, облупленный, закопченный уродец давно устаревшего поколения, отслужившего свой век, „Муравей“, тарахтя, перегреваясь и отдуваясь паром, все-таки дошел до своего места и встал на последнюю стоянку, откуда дорога только на слом. Придет новая весна, и совсем другие — послевоенные, обтекаемые корабли нового поколения один за другим начнут соскальзывать, сверкая лебединой белизной, со стапелей на волжскую воду.
А „Муравей“, притулившись к соседнему буксиру, накренясь на правый борт, тихо вмерзал в лед среди пустых и темных, оставленных командами судов, у своего последнего причала. И в ранних зимних сумерках на нем желто и слабо загорались два кружка иллюминаторов.
В насквозь промерзшей каюте малиново тлели спиральки электропечки. Закутавшись во все одеяла, было прекрасно и удобно лежать в каюте с накренившимся полом, на узкой койке и смотреть в иллюминаторы противоположной стенки, как будто нацеленные в небо. Ледяная луна появлялась слева. Голубые и красные звездочки на обмерзшем стекле вспыхивали, наливаясь ее светом. Пора было уходить, все уже кончилось, ждать было нечего, уходить, уходить... а они молчали и не уходили, тянули, длили мученье неотвратимого расставания. Луна переходила из левого в правый иллюминатор, но и оттуда, они знали, она скоро уйдет, и в небе останется только розоватое зарево, встающее над недалекой Москвой...
В угрюмом, ритмичном грохоте, в темноте и холоде, под вагоном бешено вращались оси, упруго оседали от тяжести рельсы, а высоко над всем этим, покачиваясь, мотаясь и поскрипывая, точно по воздуху несся тесный и хрупкий отсек тяжеловесного поезда — купе, теплое и мягкое, с тонкими полированными стенками.
И обоих случайных пассажиров одновременно охватило одно и то же простое и ясное ощущение: в те дальние, дальние времена, в каюте намертво вмерзшего в лед „Муравья“, было все то же, что и сейчас. Только казалось им тогда, что остановилось и больше никуда не движется время. Но время не вмерзало в лед. И тогда им не был слышен рокот неотвратимо мчащихся колес времени и судьбы, уносивших каждого на незаметно расходящиеся в разные стороны пути.
— Да... — насильно выговорила она, чтоб прервать молчание, становившееся уже совсем невыносимым. — Какое долгое, нелепое, а все-таки милое кино нам показали...
— И только двое на всем свете знают, какое прекрасное оно было. Какое горькое.
— „Муравей“? — подсказала-спросила она.
— Твое лицо. И этот месячный свет. Кристальные бусинки играют на мерзлых стеклах, и твое лицо.
— Ты разве можешь помнить лицо? Я никогда не думала.
— Да, знаешь, правда. Какое было у тебя лицо? Я его чувствую и узнаю, но вспомнить не могу... Оно во мне, но заставить себя вспомнить — заново увидеть живое твое лицо я почему-то не могу... Я отыскивал в журналах, видел на афишах и сразу узнавал: да, это одно из отражений твоего лица, но это все-таки не ты... Неужто даже воспоминания могут уставать, когда их слишком долго вспоминаешь?
— Наверно, наши воспоминания очень уж долго бродили поодиночке, не зная, куда приткнуться, где приютиться, и стали уставать. А сегодня вот встретились, как двое бездомных бродяжек, под одной кровлей, и узнали друг друга, ожили и отогрелись.
— О, твои эти вечные шуточки... От них у меня всегда сердце щемило... Еще когда девочкой... Ты завещала мне красного чертенка?..
Разговаривая, она все время непроизвольно пододвигалась к самому краю своей верхней полки, прилегла, прижимаясь щекой к самому ее мягкому отвалу, одним глазом невольно заглядывая вниз. Ей давно уже виден был накрытый салфеткой вагонный столик, боржомная бутылка, золотые часы на блестящем браслете, недопитый стакан чаю в подстаканнике с ложечкой, принимавшейся по временам тоненько дребезжать. И вдруг в поле ее зрения возникла его рука.
Схватившись за закругленный угол столика, рука стиснула его так, что побелела на косточках. Обветренная, натруженная, с выпуклыми под загорелой кожей разветвлениями вен, немолодая, крупная рука.
Какая огрубелая, усталая рука — волной нестерпимой жалости и нежности к этой руке ей обожгло сердце. Заговорила очень торопливо, беспечно, под конец попробовала даже усмехнуться, и это уже было хуже всего.