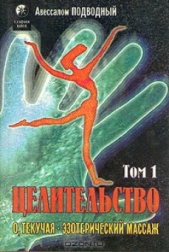Авессалом, Авессалом !

Авессалом, Авессалом ! читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
-- Подожди, -- сказал Шрив. -- Ты хочешь сказать, что у него родился сын, которого он так хотел, и после всех этих хлопот и треволнений он повернул кругом и...
-- Да. В тот вечер он сидел у дедушки в конторе и, слегка откинув голову, объяснял дедушке -- так, как, наверно, объяснял правила арифметики своему сыну Генри, когда тот учился в четвертом классе: "Видите ли, я хотел только сына -- и ничего больше. Мне кажется, что это -- принимая во внимание современные мне события -- едва ли можно почитать чрезмерным требованием к природе и обстоятельствам..."
- {Подождешь ты или нет?} -- сказал Шрив -- ...что, обретя в лачуге сына, который после всех этих хлопот и треволнений лежал наконец в лачуге, ему непременно понадобилось до такой степени раздразнить деда, чтоб тот убил сперва его, а потом и ребенка?
- Что? -- сказал Квентин. -- Это был вовсе не сын. Это была девочка.
- А-а... -- отозвался Шрив. -- Пошли. Уйдем из этого ледника и ляжем спать.
VIII
Сегодня дыхательных упражнений не будет. Окно, выходящее на замерзший пустой квадратный дворик, осталось закрытым; на противоположной стене погасли почти все окна, кроме двух или трех; часы скоро пробьют полночь, и их невозмутимый мелодичный звон, прозрачный и хрупкий, как стекло, прозвенит в неподвижном студеном воздухе (снег уже прошел).
-- Итак, старик велел черномазому позвать Генри, -- сказал Шрив. -- И когда Генри явился, старик сказал: "Они не могут пожениться, потому что он твой брат", а Генри возразил: "Ты лжешь" -- прямо так, с места в карьер, -без остановки, без передышки, без ничего, вроде как бы ты нажал кнопку, и в комнате зажегся свет. Старик просто сидел, он даже не шелохнулся, не ударил его, и потому Генри не сказал еще раз: "Ты лжешь" -- ведь теперь он знал, что так оно и есть, он просто сказал: "Это неправда"; он не сказал: "Я не верю", а только: "Это неправда", потому что теперь он, может, опять посмотрел старику в лицо и -- демон тот был или нет -- увидел в нем скорбь и жалость, не к самому себе, а к Генри: ведь Генри был просто молод, тогда как он (старик) знал, что у него еще остается храбрость и даже весь его ум...
Шрив теперь уже не сидел, он снова стоял у стола напротив Квентина. В пальто, натянутом на купальный халат и криво застегнутом не на те пуговицы, огромный и бесформенный, как взъерошенный медведь, он стоял, уставившись на Квентина (южанина, чья кровь быстро остывала и потому бежала более стремительно, быть может, чтоб уравновесить резкие колебания температуры, а быть может, просто находилась ближе к поверхности), который, сгорбившись, сидел на стуле, засунув руки в карманы, словно пытался согреться, обхватив себя обеими руками; он казался очень хрупким и даже болезненно бледным в свете лампы, в розовом отблеске, который теперь не давал ни тепла, ни уюта, между тем как дыханье их обоих превращалось в еле заметный парок в этой холодной комнате, где их теперь было не двое, а четверо, и те двое, которые дышали, были теперь не два отдельных индивида, а нечто одновременно и большее и меньшее, чем близнецы, нечто, объединенное их общей юностью. Шриву было девятнадцать лет, на несколько месяцев меньше, чем Квентину. У него и вид был точь-в-точь как у девятнадцатилетнего; он принадлежал к тем людям, чей возраст никогда нельзя правильно определить, потому что их внешность точно соответствует их возрасту, и потому ты говоришь себе, что ему или ей никак не может быть столько лет: ведь их внешность слишком точно соответствует их возрасту и, стало быть, они не могут этим не воспользоваться, и оттого никогда нельзя безоговорочно поверить, что им действительно столько лет, сколько они говорят или, доведенные до полного отчаяния, признают, или же столько, сколько кто-то про -них сказал, и каждому из таких людей достанет силы и готовности на двоих, на две тысячи или на всех им подобных. Не двое в комнате университета в Новой Англии, а один в Миссисипи шестьдесят лет назад, в библиотеке, украшенной по зимнему времени и празднику остролистом и омелой -- букеты в вазах на камине, гирлянды на картинах, развешанных по стенам, и, может быть, две-три веточки над фотографией, изображающей группу -- мать с двумя детьми -- на письменном столе, за которым сидел отец, когда вошел сын; и вот они оба, Шрив и Квентин, думают о том, как после слов отца и еще до того, как потрясение, вызванное его словами, прошло и слова начали приобретать смысл, Генри (позже он об этом вспомнит) увидел в окне за головой отца, как его сестра со своим возлюбленным медленно идет по саду; она слушает, наклонив голову, голова возлюбленного склонилась над ней; они медленно проходят мимо, в том ритме, который отмечают и отмеряют не глаза, а сердца, проходят и скрываются за какими-нибудь зарослями или за кустом, сверкающим звездами белых соцветий -жасмина, таволги или жимолости, а может, даже китайской розы с россыпью лишенных аромата мелких цветочков, тех, что никак не сорвешь из-за слишком коротких стебельков -- названия, цветы, которых Шрив, вероятно, никогда не слыхал и не видал, хотя тот ветер, что ласково их взлелеял, сначала овевал лицо ему. Здесь, в Кеймбридже, не будет иметь значения, что в том саду тоже была зима, и оттого в нем не осталось ни листочка, ни цветка; ни тем более кого-нибудь, кто мог там гулять и кого можно было там увидеть, -- ведь, судя по дальнейшим событиям, в том саду тоже была ночь. Но это не имело значения, потому что происходило так давно. И уж во всяком случае, это не имело значения для них (для Квентина и Шрива): они могли, даже не шелохнувшись, столь же свободные сейчас от плоти, как отец, который тогда приказывал и запрещал; сын, который не верил и отвергал; возлюбленный, который на все соглашался; возлюбленная, которая еще не понесла утраты, -- они могли без скучного томительного перехода от очага и сада к седлу уже сейчас гулко стучать подковами по промерзшим ухабам в ту декабрьскую ночь, на заре того рождественского дня, дня радости и мира, доброты и остролиста и поленьев, горящих в очаге, и не вдвоем, как тогда, а вчетвером, скакать верхами на двух лошадях в кромешной тьме; равным образом не имело значения ни какие у них лица, какими именами они себя называли, ни как называли их другие -- до тех пор, покуда в их жилах текла еще кровь, кровь, бессмертная недолговечная неизменная юная кровь, для которой честь превыше ленивого несожаленья, а любовь -- превыше беспечного тупого стыда.