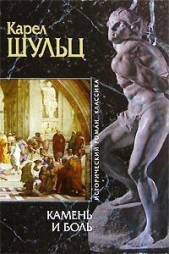Камень на камень

Камень на камень читать книгу онлайн
Роман «Камень на камень» — одно из интереснейших произведений современной польской прозы последних лет. Книга отличается редким сочетанием философского осмысления мировоззрения крестьянина-хлебопашца с широким эпическим показом народной жизни, претворенным в судьбе героя, пережившего трагические события второй мировой войны, жесткие годы борьбы с оккупантом и трудные первые годы становления новой жизни в селе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Помогите!
Гуз кинулся было, но какой-то сразу ему дуло к животу и осадил на месте. И тут офицер крикнул: Schiessen![10] И солдат, который ближе всех был к машине, так и прошил Стронка очередью. А Стронк палку из рук выпустил и стоит. Погодя только бухнулся, аж земля застонала.
И сразу стали нас подталкивать дулами на середину поляны. Обозначили яму метров в десять длиной, два шириной и велели копать. Одним с одной стороны, другим с другой — выходило, падать мы будем друг к другу головами.
Я больше делал вид, что копаю, а сам все время думал, как убежать, как убежать, ведь с каждой минутой смерть опрометью к нам приближалась. Напротив меня копал Зёло из Бартошиц, у него уже и слезы по лицу текли, и всхлипывал он как ребенок. Но если просто сорваться и в лес, я и до деревьев не добегу, первая же очередь меня достанет. Хотя до деревьев было шагов пятнадцать, не больше. Только позади нас эти гады стояли, один возле другого, уткнувши дула нам в спины.
Я уже начал терять надежду, потому что яма становилась все глубже. И все уже читали «Отче наш», это видно было по шевелящимся губам, а порой и слова долетали сквозь скрежет лопат.
— Ты как копаешь? Копай как следует, — услышал я вдруг сбоку укоряющий шепот Антоса, который стоял от меня слева. Глянул: этому чего надо? Я его умным считал, а тут, видать, и он со страху сдурел. И заодно посмотрел на Курася, который копал от меня по правую руку. Посмотрел и даже удивился, будто впервые увидел, какой он маленький. А ведь знал мужика тыщу лет и помнил, что маленький. Ну маленький, так маленький. Один длинный вырастает, другой коротыш, в деревне никто и внимания не обращает, раз уж господь бог столько отмерил. Правда, случается, в таком недомерке побольше силы, чем в ином долговязом, и ума больше. Я подумал, наверное, господь мне его послал, и аккурат по правую руку. Был бы верзила, как Антос, и пытаться б не стоило. Жалко, конечно, но ведь все равно ему не жить, зла он мне не попомнит, а я, может быть, спасусь.
Надо только помолиться за его душу. Ну и я стал молиться, но так, чтобы он не заметил, больше в мыслях, чем губами. Простите, Антоний, да будет вам земля пухом. Отправляйтесь из этой ямы прямиком в рай. И не поминайте лихом за то, что я вашей смертью воспользовался, чтобы убежать. Гляньте, сколько мужиков вскоре голову сложат, и все зазря. Только от вашей, Антоний, смерти будет прок. А я, если, даст бог, убегу, за вас отомщу, обещаю. Посматривайте с небес и считайте всех сволочей, которых я на тот свет отправлю. Потому что каждого как бы немного и за вас. Обещаю, Антоний. Господи Иисусе, иже еси на небесех, прими к себе Антония Курася, и не одну только душу, но, если возможно, и тело. Он хоть и не на кресте умер, а в лесу, такую же, как ты, крестную смерть принял. И отпусти ему все грехи или на меня переложи, и пусть они будут моими до конца дней моих и до скончанья века. И меня за них покарай, а его спаси и помилуй. Антонием Курасем его звать. Не забудь, господи. И не спутай с другими. И чтоб потом, убитому, ему не пришлось долго по лесу блуждать. Прощайте, Антоний.
И я схватил Курася под бока, а легкий он был, как перышко, и бросил на того, что стоял за моей спиной. Тот успел выплюнуть короткую очередь, и оба упали на землю. Немец под низ, а убитый Курась на него. В первую минуту те подумали, Курась убегает, и, пока сообразили, что я, а не он, я добежал до ближайшего дуба — и за дуб, тогда только полетели мне вдогонку пули. Но за дубом сразу другие дубы, буки, ели, целый лес. Да и смерть меня подгоняла, и мчался я как олень, петляя между стволов, пока совсем за деревьями не скрылся. Хотя мне еще долго казалось, будто за мной по пятам несутся, я слышал топот бегущих по лесу ног, крики, и пули жужжали над головой.
Я, наверное, страшно долго бежал, потому что и воздух уже ко мне в рот не попадал и в груди кололо, и деревья я огибал все с большим трудом. Раз-другой зацепился за что-то, упал, встал, но чувствовал, надолго меня не хватит. Снова зацепился — за корень, снова упал и не нашел в себе силы встать. К счастью, не слыхать было, чтобы кто-нибудь за мной гнался или где-нибудь стреляли, наоборот, было слышно, как разливается по лесу тишина. Но мне теперь не столько даже жить хотелось, сколько спать, спать.
И тут у меня как дернет в левом боку, я потрогал рукой, а рука вся в крови. Спать сразу расхотелось. Я подвернул куртку: из бока прямо вырван клок, на разодранной рубахе кровавые сгустки, весь пояс в крови и штанина до щиколотки мокрая от крови. Хотя я даже не почувствовал, что в меня попала пуля. Пробовал зажать рану рукой, но кровь текла и сквозь пальцы. Я с трудом поднялся и пошел. Только куда идти, чтоб добраться до людей? Вдруг лес вокруг меня закружился, как карусель, и в глазах потемнело, пришлось прислониться к дереву. Послышалось, вроде петух поет. Я подумал, это мне перед смертью мерещится. Но нет, снова послышалось. И близехонько, будто прямо за деревьями. Я потащился в ту сторону, то держась за стволы, то на карачках. И вскоре в просвете между деревьев увидел хату, крытую золотистым гонтом, из трубы шел дым. Дальше ничего не помню.
Когда очнулся, надо мной стояла какая-то дворняга и жалобно скулила, как над покойником. А из-за деревьев приближался мужик, держа наизготовку вилы, словно собирался их в меня воткнуть, и то и дело спрашивал у пса:
— Ну чего там, Микусь? Что нашел?
Хотел он сразу запрячь лошадь и ехать в город за фельдшером, потому что ни сам, ни баба его не верили, что я выживу, столько из меня ушло крови. Но я не согласился, чему быть, того не миновать, а фельдшер может оказаться доносчиком, и напрасно я тогда убегал. К счастью, пуля не застряла в теле. Промыли мне рану самогоном, потом прикладывали то хвощ, то мать-и-мачеху, и через несколько дней кровь перестала сочиться. А потом уже только барсучьим салом лечили. И потихоньку, помаленьку стало заживать. Больше всего мне помогло, что я морковь как кролик грыз, чтобы прибыло крови. По полкузовка съедал чуть не каждый день. А еще хозяйка мне сок выжимала и к обеду каждый день варила морковь. Я весь желтый стал от этой моркови. Не только лицо, но и руки, и ноги, и даже ногти пожелтели, точно я весь был покрыт воском. А зубы золой отчищать пришлось. Когда же я наконец отправился ночью показаться отцу с матерью, что я живой, а прошло к тому времени уже месяца два или три, первые отцовы слова были:
— Чего это ты желтый такой? Неужто живой? Ты это или твой дух? Не, а мы уже тебя оплакали. Поседели из-за тебя. Только почему ж такой желтый?
Мать приподнялась с подушек — и в плач. Слова не могла выговорить, но, едва плач этот в ней поутих, давай меня защищать:
— Какой он тебе желтый? Исхудалый, бледный. Господь милосердный. Точно с креста снятый он, а не желтый. Ты небось голодный, сынок? Сейчас встану, подогрею тебе. Осталась лапша с обеда. А я уж столько намолилась за тебя, убитого. — И снова расплакалась.
Но отец стоял на своем:
— Как не желтый? Что я, не вижу? Эвон, желтый какой.
— Это от моркови, — сказал я.
Тогда он посмотрел на меня, точно на какого насмешника, и сник. Сел на лавку, понурил голову, и, покачиваясь, уставился вниз на свои босые ноги. Удивило меня немного, откуда он мог догадаться, что я желтый, темно было в горнице, свету от подвернутого фитиля в лампе сочилось не больше, чем бы днем из щелей, да и не такой уж и желтый я был. Может, отец не верил, что это я, а негоже было спрашивать, ты ли это, мой сын, Шимек, которого убили, и он только спросил: чего это ты такой желтый?
А матери ничего не понадобилось спрашивать, она заплакала и сразу все поняла. Так уж заведено на свете, что женщине плач приходит на выручку, когда отказывает разум. А плач все знает-понимает: слова не знают, мысли не знают, не знают сны, и бог иной раз не знает, а людской плач знает. Потому что плач — он и плач, и то, над чем плачут.
Когда же этот плач оборвался, мать все равно меня спрашивать ни о чем не стала, а принялась рассказывать о себе. Что куры у ней отчего-то не несутся. Вчера подобрала только три яйца. Хотя с чего им нестись? Дали бы пшеницы, тогда б неслись. А тут только картошка с мякиной да что сами выроют из земли. Еще хорек одну прошлый месяц загрыз. Самую лучшую. На яйца ее посадили. Рябая, помнишь? И хоть не одна она была рябая, я помнил. Ох и умная была курица. Едва завидит меня на пороге, с другого конца двора бежит: может, я ей зерна или крошек кину. И надо же, чтобы аккурат ее загрыз хорек. Она, если выковыряет чего-нибудь из земли, скорей другим курам уступит, чем с ними драться. И через дыры в плетне никогда ни к соседям, ни на дорогу не вылазила. И спать, когда смеркалось, сама шла, а других вечно загонять нужно. Была бы цыплятам хорошая мать. Как я радовалась, господи Иисусе, как радовалась. А тут утром захожу в курятник — кругом перья и кровь. И все текла из нее эта кровь, текла. Никогда не видела, чтоб из одной курицы столько крови. Другую, опять же, пришлось зарезать, хвороба какая-то к ней пристала. Сперва начала она от других кур отставать. А потом только бы и стояла у хлева, да на одной ноге. Гроза, видать, будет, думаю, господи Иисусе, хоть бы без молний. Не дай бог, град. Сколько всего попортит. А она иногда только к плошке с водой подходит, попьет, попьет и обратно к хлеву, и опять стоит на одной ноге. День прошел, два. Я ей пшеничку в горсти под клюв подставила, а она хоть бы голову высунула из перьев. А вечером бери ее на руки и неси в курятник, не то б она небось и не узнала, что ночь. Но раз взяла я ее за голову и вижу — глаза у нее начинают пленками зарастать и махонькие такие, с просяное зернышко. Видать, толку от тебя, горемыка, не будет. Ох, господи Иисусе!