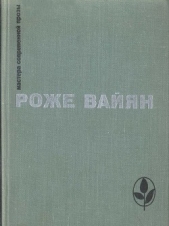Закон

Закон читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Люсьена была жадна до всего. Она исчезала из дома на целый день и возвращалась к вечеру с новой шляпкой, с новым платьем, с мехами, цветами. Французские авиаторы возили ее на спортивном “вуазене” в Булонский лес. Впервые в жизни дон Чезаре ревновал. Перед посторонними он надевал маску безразличия, улыбался - сказывалось хорошее воспитание, - но, когда они возвращались на рассвете к себе на улицу Спонтини, он осыпал ее упреками, устраивал сцены, длившиеся часами. Рвал в клочья новые платья, если она не могла объяснить, откуда взяла на них деньги. А она, жестко глядя на него, говорила: “Когда ты вернешься в Италию, тебе будет все равно, кто меня одевает”. - “Я увезу тебя с собой”. - “Да ни за что на свете… Я вовсе не желаю схоронить себя смолоду в Апулии и жрать макароны”. Когда поток проклятий и упреков иссякал, она холодно разрешала ему взять себя, и даже его ласки не умягчали жесткого блеска ее глаз. Но именно из-за этой холодности он не бросал ее, хотя понимал, что к этому его обязывала простая честь. Уверенный в своей мужской силе, он убеждал себя, что рано или поздно он сумеет дать ей наслаждение, хотя она, упрямица, даже не пыталась делать вид, что его ласки ей приятны. Вот тогда-то, когда наступит его час, он, по их манакорскому понятию о любви, по-настоящему подчинит ее своей власти, вот тогда-то она в свой черед узнает, что такое ревность. А пока что, подобно игроку, который в отчаянии все увеличивает ставки, хотя сам понимает, что стоит на грани полного краха, он от ночи к ночи испытывал все новые и все более горькие унижения.
- А ведь было, - обратился дон Чезаре к Мариетте, - ведь было так, что одна женщина навязывала мне свой закон… Уже давным-давно было; твоей матери тогда еще четырнадцати не исполнилось, а я жил за границей, в одной столице, Париджи называется…
Мариетта подняла на говорившего удивленные глаза. Уж очень не в привычках дона Чезаре было пускаться в откровенности с девушками своего дома. Она решила, что, очевидно, болезнь, сковывавшая его тело, принимает роковой оборот и он совсем ослабел. И снова веки ей обожгли слезы.
Дон Чезаре пытался рассказать Мариетте о единственной своей несчастной любви. Это оказалось не так-то легко. Мариетта никуда из Порто-Манакоре не выезжала, ни разу в жизни на ее памяти никто не посмел усомниться в могуществе ее хозяина.
Только когда он перешел к изменам Люсьены, Мариетта встрепенулась.
- А вы бы взяли да прогнали ее! - воскликнула она.
Он и в самом деле прогнал Люсьену. Кстати, в тот день она ничуть не сильнее оскорбила его, чем обычно. Просто болтала с кем-то по телефону - он не знал с кем, - шутила, и все это с явным вызовом в его адрес… Да-разве такие еще унижения он от нее терпел? Но в эту самую минуту он понял, что уже вышел из-под власти навязанного ею закона. Он вдруг увидел ее и себя рядом с ней, в их квартирке на улице Спонтини: он сидит на постели, она болтает по телефону, - увидел их обоих такими, какими они были в действительности, но так, как увидел бы со стороны двух любовников, только это не были ни он, ни она, а, скажем, любовники на театральных подмостках, или так, как увидел бы их хромой бес, приподнявший крышу дома. В боях на Пьяве австрийская пуля угодила ему в ляжку, только через двое суток удалось эвакуировать его в лазарет; а в течение этих двух суток пуля, отдававшаяся непереносимой болью во всем теле, стала как бы частью его самого, самой неотъемлемой частью: временами он полностью отождествлял себя с этим кусочком металла, вонзившимся в человеческое тело и разливавшим вокруг себя боль; его захлороформировали, а когда он проснулся, пуля лежала на столике у изголовья постели, нечто совсем постороннее, безвредное, безобидное. Совсем так получилось и с его любовью, когда перестал действовать навязываемый ею закон. Он с удивлением смотрел на Люсьену и на того человека, который страстно любил эту Люсьену, на него и на нее, на двух отныне чужих друг другу людей. И он тут же прогнал прочь неверную свою подругу.
Он глядел ей вслед, когда она спускалась с лестницы, таща свои чемоданы. На половине марша она обернула к нему свое залитое слезами лицо, то самое лицо, которое еще накануне наполняло его счастьем или страхом, каждое выражение которого врезалось в самое сердце; впервые он видел ее плачущей. Но он уже “потерял к ней интерес”.
Несколько раз она появлялась в его снах, и он терзался от ревности, как во времена своей любви. Он видел, как спускается она с лестницы в день их разлуки, но только теперь она обращала к нему не заплаканное, а сияющее радостью лицо. “Иду к своему любовнику”, - говорила она. Потом он изгнал ее даже из своих сновидений.
- Бог знает, жива ли она еще, - вздохнула Мариетта.
- Я о ней больше никогда и не вспоминал, - ответил дон Чезаре.
И впрямь, вспомнил он о ней лишь в час своей кончины, и то потому, что жесткий взгляд Мариетты напомнил ему такой же жесткий взгляд Люсьены.
“Почему, ну почему сунула Мариетта бумажник швейцарца в карман Маттео Бриганте? У Пиппо огневые очи, он сама нежность, настоящий романтический предводитель разбойников. Но настанет такой день, - думал дон Чезаре, - и день этот не за горами, когда Мариетта предложит Маттео Бриганте объединиться с ней, дабы навязать еще более неумолимый закон батракам на своей оливковой плантации и на своих плантациях апельсиновых и лимонных”.
Они ждали судью. Мариетта думала о том, какие огромные деньги просадил дон Чезаре на эту Люсьену; дон Чезаре думал о том, что вся его жизнь была построена на сплошных самоограничениях.
Был он и игрок, и выпивоха, как большинство офицеров их полка. Да и почему бы ему не пить и не играть? Даже суровый кодекс офицерской чести не запрещал ни выпивок, ни карточных игр. Но вот в один прекрасный день он разглядел в чертах своего лица - лицо игрока, то есть человека, чье поведение обусловлено привычкой к игре, для которого игра - это уже закон. И, увидев такого человека, он уже видел его как чужого себе. В тот же день он бросил играть.
Через всю жизнь он пронес нерушимым единственный для него моральный закон - сохранить себя для некоего дела, которого он так и не совершил. Всякий раз, когда, по его мнению, он бывал втянут в то, что не мог считать главной своей задачей (каковую в конце концов он так и не осуществил), он сразу и без малейших усилий отступал, как умеет отступить прирожденный и хорошо владеющий рапирой фехтовальщик.
Однако не так-то просто оказалось отвыкнуть от алкоголя. Люди чести с легкой душой уж скорее предаются пьянству, нежели унизительным любовным интрижкам или механическому раздражителю азартных игр, коль скоро и то и другое связано с дурным обществом или просто с неприятностями. Алкоголь воспламеняет (любимое выражение картежников) в той же мере, однако оставляет человеку иллюзию, будто в процесс питья втянут лишь он один, и притом меньшая часть его самого. Пришло время, когда ему при пробуждении требовалось выпить целый стакан водки. Самому порвать с этой пагубной привычкой не хватало силы: пришлось прибегнуть к помощи врача.
Было это во Флоренции. Кровать, железный стул, деревянный белый стол; палата не больше тюремной одиночки; случалось, здесь запирали буйно помешанных. Больница стояла на вершине холма над самым Арно, к реке террасами спускались сады, но с постели видно было одно лишь небо. Как только утихли первые спазмы отлучения от алкоголя, подобные конвульсивным движениям новорожденного младенца, который впервые в жизни очутился нагим и беззащитным от яркого света, холода, шумов, прикосновений, словно лишенный кожуры плод, как только прошла первая тяжкая полоса линьки, он стал точно мертвый.
Стайки розовых перистых облачков, окрашенных последним светом закатных лучей, медленно-медленно проплывали в клочке неба, схваченном проемом окна. А он лежал как мертвец. Он чувствовал себя полностью раскованным, будто спали с него какие-то узы, совсем как распадались эти недолговечные облачка, когда легкий ветер пригонял их к выходившему на юг окну и медленно выгибал в небе аркой, а когда их тянуло к северу, рассеивал их, превращая в золотистую дымку. Значит, думал он без страха, но и без радости, если есть что-то ему одному принадлежащее, значит, думал он, - это смерть, моя смерть. Но если ты, о человек, прозреваешь свою смерть, следовательно, ты живешь! И ему становилось до слез мило это небо, нежное майское небо, собственная его жизнь, здесь, над Арно, присутствие которого только угадывалось над этой медлительной рекой, отражавшей небо, как и его глаза.