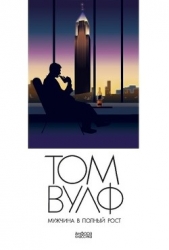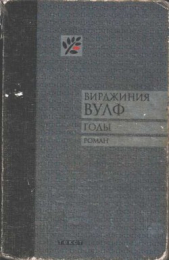Волны

Волны читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поигрывая стеком, ощущая в затылке приятное покалывание от свежей стрижки, я шел мимо лотков с разной грошовой дрянью, понавезенной из Германии, какую тебе навязывают прямо на улице возле Святого Павла - Святого Павла, как наседка раскинувшего свои крылья, из-под которых выскальзывают автобусы и льется поток мужчин и женщин в час пик. Я думал про то, как Луис, наверно, поднимается по этим ступеням в своем ладном костюме, со своей этой тростью в руке, своей угловатой, несколько отвлеченной походкой. Со своим австралийским акцентом ("Мой отец, брисбенский банкир") он, я думал, приходит сюда с большим почтением к старым обрядам, чем я, понаслушавшийся этих баюбаюшек за тысячи лет. Меня лично при входе всегда впечатляют стертые носы; натертая медь надгробий; поклоны, распевы, когда мальчишеский голос стонет под самым куполом, как потерянный голубок. И покой этих мертвых меня впечатляет - воины спят вечным сном под знаменами. Но потом меня непременно смешат дурацкие вычуры, глупые загогулины какой-нибудь пышной плиты; и богини победы, и трубы, и гербы, и уверенность, возглашаемая столь полногласно, в воскресении, в жизни вечной. Но потом мой праздный шныряющий взгляд выхватывает благоговейное дитя; шаркающего пенсионера; и земные поклоны бледненьких продавщиц, гонимых сюда бог весть каким тайным сомнением, дабы облегчить свою тощую грудь в час пик. Я рассеиваюсь, я глазею, гадаю, а то по лучу чужой молитвы тайком пытаюсь взобраться под купол, и - наружу, и дальше, уж куда он меня поведет. Но потом, как тот стонущий, потерянный голубок, я бьюсь, я сдаюсь, я спускаюсь и устраиваюсь на какой-то потешной горгулье, на стертом носу, на нелепой плите и с любопытством, с усмешкой я опять наблюдаю, как мимо снуют туристы с Бедекерами, пока мальчишеский голос парит под куполом и заходится вдруг слоновьим восторгом орган. Ну и каким же образом, я спрашивал, Луис хочет нас всех загнать под одну крышу? Подстричь под одну гребенку? Всех сплести воедино красночернильным росчерком тонюсенького пера? Мальчишеский голос со стоном таял под куполом.
И - снова на улицу, поигрывать стеком, поглядывать на пресс-папье в канцелярских лавках, на корзины с вызревшими в колониях фруктами, бубнить "Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей", "Волшебный край, откуда нет возврата", "Вечерний звон, вечерний звон", "Шалтай-Болтай сидел на стене", мешать чепуху с поэзией, плыть по течению. Всегда есть какое-то срочное дело. За понедельником следует вторник; среда, четверг. Каждый пускает свою зыбь по воде. Душа, как дерево, прирастает кольцами. Как дерево, роняет листву.
И однажды, когда я стоял, опершись на калитку, ведущую в поле, вдруг пресекся этот ритм; рифмы и бормотанье, чепуха и поэзия. У меня в мозгу прочистилось место. Я стал видеть сквозь густую листву привычки. Опершись на калитку, я пожалел, что такая бездна в жизни разного сора, и так много осталось несделанного, и мы так дико разобщены, потому что уже не потащишься через весь Лондон повидать друга, и завертели ненужные обязательства, и никуда не деться; и никогда я не сяду на пароход, не поплыву в Индию, не увижу, как голый человек бьет рыбу в синей воде острогой. Вся жизнь, я говорил, была одна непропеченная, халтурная фраза. И где уж мне, угощавшемуся табачком у каждого встречного-поперечного в поезде, где мне нести эстафету - память поколений, память о женщинах, бредущих с красными кувшинами к Нилу, о соловье, который поет среди топота толп, завоеваний и странствий... Слишком это все неподъемное предприятие, я говорил, да, и как мне теперь идти дальше, взбираться по тем же ступеням? - я обращался к самому себе, как разговаривают со спутником, вместе путешествуя на Северный полюс.
Я обращался к своему Я, побывавшему со мной в самых диких передрягах; к верному другу, который, когда все ушли спать, остается, сидит у камина, ворошит кокс кочергой; к тому, кто разрастался и строился так непостижимо, внезапно, толчками - в буковом лесу, сидя на мураве подле ивы, опершись на парапет в Хэмптон-Корте; который, когда нужно, умел собраться, стукнуть ложкой по столу, крикнуть: "Нет, я не согласен!"
И это мое Я, этот самый человек, когда я стоял, навалясь на калитку и глядя, как волнами цвета перекатываются поля, - вдруг ничего не ответил. Он не спорил. Не вымучивал фраз. Его рука не сжималась в кулак. Я ждал. Я слушал. И - ничего, никакого ответа. И тут я закричал, я понял, что я всеми, окончательно брошен. Ничего, ничего не будет. Не вспыхнет плавник в безмерной пустыне волн. Жизнь меня предала. Я говорю - и эхо не отвечает, чуть скомкав края слов. Вот - настоящая смерть, и это страшней, чем когда друзья умирают, когда умирает юность. Я - спеленутая фигурка перед зеркалом в парикмахерской, вот и всё, и больше ничего.
Поле подо мною померкло. Как при затмении - вот солнце покинуло землю, плескавшуюся в летней листве, и все стало вялым, смертным, фальшивым. И на петлистой дороге, в пляшущей пыли, я увидел группки, которые мы составляли, и как сходились, как вместе ели, как встречались то в одном, то в другом каком-нибудь месте. И собственные неусыпные труды я увидел - рыскал от одного к другому, пыхтел, хлопотал, мотался туда-сюда, пристраивался то к тем, то к этим, там со мной носились, тут встречали мордой об стол; и вечно я был озабочен исключительно важным делом, бежал, уткнувши нос в землю, как помкнувший по следу пес; встряхну головой, вскрикну вдруг от изумленья, от неожиданности, и - снова бежать, уткнувши нос в землю. Какой сумбур - какая невнятица; тут роды, тут смерть; сочность и сладость; потуги и муки; а я вечно мечусь и куда-то мчусь! Но теперь баста. Все. Уже ничем не упьюсь - нет того аппетита; жала нет уже - людей язвить; ни острых зубов, ни хватких рук, ни охоты - тешиться грушей, и виноградной кистью, и как - же стреляло солнце с забора вишневого сада.
Лес исчез; земля стала пустыней теней. Ни единый звук не нарушал этой ледяной тишины. Нигде не пел петух; не стлался дымок; не грохотал поезд. Человек без своего Я, я подумал. Тяжелый, на калитке повисший труп. Мертвец. Вконец во всем изверясь, с холодным отчаянием я смотрел, как пляшет пыль; и видел всю мою жизнь, и жизни моих друзей, и те, баснословные призраки: садовники мели метлами двор, леди сидела, писала, ива стояла на берегу облака и фантомы из пыли, из пыли, и она менялась, как облака - опадают, взбухают, золотятся и пропитываются малиновым, и сплющиваются, и мчатся, зыбкие и пустые. А я? Всюду таская с собой записную книжку, сочиняя фразы, я только эти перемены и отмечал; сам - тень, прилежно выслеживал тени. И как я теперь пойду дальше, потеряв свое Я, лишенный веса, незрячий, по миру без веса и без иллюзий?