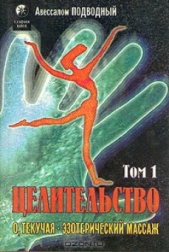Авессалом, Авессалом !

Авессалом, Авессалом ! читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она прожила у них неделю. Остаток недели она провела в единственной комнате, где еще оставалась кровать с полотняными простынями, провела его лежа в постели, в новых кружевных, шелковых и атласных пеньюарах мягких розовато-лиловых и сиреневых тонов, приличествующих трауру, в душной закупоренной комнате с закрытыми провисавшими ставнями, пропитанной тяжелым неуловимым запахом ее тела, ее одежды, смоченного одеколоном платочка на лбу и хрустального флакончика; негритянка, сидя у постели, то давала ей нюхать этот флакончик, то обмахивала ее веером, в промежутках подходя к дверям, чтобы принять из рук Клити подносы, которые та приносила из кухни по приказу Джудит; Клити таскала их по лестнице вверх и вниз, хотя наверняка догадалась, даже если Джудит ей и не сказала, что та, кому она прислуживает, тоже негритянка, и тем не менее прислуживала этой негритянке с таким же усердием, с каким, время от времени выходя из кухни, разыскивала по всем комнатам нижнего этажа одинокого чужого мальчика, спокойно сидевшего на прямом жестком стуле в полутемной сумрачной библиотеке или гостиной, мальчика, наделенного четырьмя именами и одной шестнадцатой долей негритянской крови, одетого в .дорогие изысканные наряды, словно маленький лорд Фаунтлерой, -- скованный необоримым ужасом, он смотрел на светло-коричневую женщину, которая подходила босиком к двери, вперяла в него угрюмый взор и приносила ему не печенье, а самые что ни на есть грубые кукурузные лепешки, намазанные столь же грубой патокой (да и те тайком -- не потому, что мать или дуэнья возражали, нет, просто еды в доме хватало лишь на завтрак, обед и ужин); она давала ему эти лепешки, с трудом сдерживая ярость, совала их ему в руки, а однажды, застигнув его на дороге за воротами, где он играл с негритенком примерно одного с ним роста, она, не повышая голоса, жестоко изругала негритенка, а ему приказала вернуться в дом таким тоном, который казался еще холодней и страшнее оттого, что в нем не было ни тени злости или гнева.
Да, Клити, которая безучастно стояла возле фургона в тот последний день, когда, торжественно посетив во второй раз могилу с шелковой подушкой, зонтиком и нюхательной солью, мать, ребенок и дуэнья отбыли в Новый Орлеан. И твой дед так никогда и не узнал, сама ли Клити следила, сторожила, каким-то образом держала с кем-то связь в ожидании дня, часа, когда мальчик осиротеет, после чего сама за ним отправилась, или же следила и ждала Джудит, и той зимою, в декабре 1871 года, послала за мальчиком Клити -Клити, которая за всю свою жизнь никогда не уезжала из Сатпеновой Сотни дальше, чем в Джефферсон, и тем не менее одна совершила это путешествие в Новый Орлеан и привезла оттуда мальчика -- ему теперь было двенадцать лет, но выглядел он десятилетним; костюмчик маленького лорда Фаунтлероя был ему теперь мал, но поверх него была напялена новая, не по росту огромная парусиновая роба, которую ему купила Клити (и заставила его эту робу носить -- от холода или просто так, дедушка тоже сказать затруднялся), а узелок с его пожитками был завернут в пестрый носовой платок -- этот мальчик, который не знал ни слова по-английски, так же как женщина, которая нашла, выследила его во французском городе и увезла оттуда, не знала ни слова по-французски; этот мальчик с лицом не то чтобы старообразным, а просто лишенным возраста, словно у него не было детства, но не в том смысле, как, по ее же собственным словам, не было детства у мисс Розы Колдфилд, а словно он родился не как все люди, а появился на свет без участия мужчины, без родовых мук женщины и стал сиротою, хотя не лишился ни отца, ни матери. По словам твоего дедушки, никто не спрашивал, даже не задумывался о том, что сталось с его матерью: умерла ли она, сбежала ли с любовником или вышла замуж; она не переходила из одного состояния -- прелюбодеяния или смерти -- в другое, унося с собой копившийся годами мусор, который мы называем памятью, и свое неповторимое Я, а изменялась постепенно, от фазы к фазе, как меняется бабочка, сбросив кокон -она не переносит ничего, что было, в то, что есть, не оставляет позади ничего сущего, а целиком, нетронутая и покорная, принимает свое следующее обличье и, подобно тому, как распустившаяся роза или магнолия одного роскошного июня увядает и возрождается в другом, не оставляет нигде между землей и солнцем ни костей, ни чего-либо вещественного, ни малейшей частички праха от былых поражений, от их бездушной роскоши. Мальчик появился в этом перенасыщенном ароматами, закупоренном шелковом лабиринте готовым и законченным, не подверженным воздействию никаких микробов, словно изящный порочный дух-символ, словно бессмертный паж бессмертной праматери Ли-лит; он явился в этот мир в возрасте не одной секунды, а двенадцати лет, когда изысканный наряд пажа был уже наполовину спрятан под бесформенной дерюгой, какие шьют по железному шаблону и продают миллионами штук, -- под этой бурлескной униформой и в регалиях трагического бурлеска сынов Хама; его, этого молчаливого хрупкого ребенка, который не умел даже говорить по-английски, неожиданно подобрала среди развалин единственно знакомой ему жизни, рухнувшей в какой-то неведомой катастрофе, женщина, которую он однажды видел и с тех пор смертельно боялся, но от которой не мог убежать, подобрала и держала, беспомощного и бессильного, в состоянии, очевидно, представлявшем собою некую невероятную смесь ужаса и доверия -- ведь он даже не мог с ней разговаривать (они провели, должны были провести целую неделю на нижней палубе парохода среди тюков хлопка, где ели и спали с неграми, и он даже не мог сказать своей спутнице, что он голоден или хочет в уборную), и потому мог только подозревать, догадываться, куда она его везет, мог знать наверное только то, что вся знакомая ему прежде жизнь исчезла, улетучилась, рассеялась как дым. Однако он не сопротивлялся; он покорно и кротко вернулся в полуразвалившийся дом, который уже когда-то видел, где свирепая угрюмая женщина, которая нашла и привезла его сюда, жила вместе с другой, спокойной белой женщиной, даже не свирепой, а лишь спокойной и больше никакой, которая для него еще даже не имела имени, но почему-то была связана с ним так тесно, что именно ей принадлежало то единственное место на земле, где он в первый и последний раз в жизни видел, как плакала его мать. Он переступил этот чужой порог, этот рубеж, откуда не было пути назад; суровое неумолимое существо не привело, не притащило, а, как теленка, пригнало его в этот убогий опустелый дом, где даже оставшиеся у него шелковые наряды, тонкие сорочки, чулки и туфли, все еще напоминавшие ему, кем он некогда был, слетели, исчезли с его тела, с его рук и ног, словно химеры, сотканные дымом... Да, он спал на низенькой передвижной кроватке возле кровати Джудит, женщины, которая смотрела на него и обращалась с ним с неизменной холодною и отчужденной лаской, что обескураживала его гораздо сильнее, чем неустанная свирепая и жесткая опека негритянки, с каким-то упорным нарочитым смирением спавшей на соломе на полу; лежа между ними без сна, погруженный в бездну бессильного и безнадежного отчаянья, мальчик ощущал все это -- присутствие лежавшей на кровати женщины, чьи взгляды и поступки, чьи умелые руки, стоило им только прикоснуться к нему, тотчас теряли все свое тепло и, казалось, насыщались холодной и беспощадной неприязнью, и женщины на соломенном тюфяке -- он уже привык смотреть на нее так, как маленький, слабый, лишенный клыков и когтей звереныш, который, скорчившись в клетке, отчаянно и тщетно силится притвориться кровожадным, мог бы смотреть на кормящего его человека (тут твой дедушка привел цитату: "Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им", и добавил: интересно, что господь бог хотел этим сказать? Если он хотел сказать, что детям приходится просить разрешения приблизиться к нему, то что же за землю он тогда создал? А если дети должны страдать, чтобы приблизиться к нему, то что же тогда у него за небеса?) -- женщина, которая его кормила, совала ему куски, как он сам видел, лучшие из всего, что у них было, пищу, как он отлично знал, приготовленную только для него ценою сознательных жертв, совала со странной смесью жалости и злобы, ненависти и горькой тоски -- она его одевала, умывала, заталкивала его в лохань с водой, то слишком горячей, то слишком холодной, что он, однако, терпел, не смея возражать; сдерживая ярость, она изо всех сил терла его мылом и жесткой мочалкой, словно хотела смыть с его гладкой кожи еле заметную окраску -- так ребенок порою все еще трет стену, хотя от нацарапанного на ней мелом обидного бранного слова давно уж не осталось и следа; лежа без сна в темноте между ними, он чувствовал, что и они не спят, чувствовал, что они думают о нем, о его будущем, и в оглушительной тишине его одиночества и отчаяния эти их мысли звучат громче всяких слов: {Ты не лежишь со мною в кровати, где тебе следовало бы лежать; хоть не твоя в том вина и воля; ты не лежишь со мной на полу, где ты должен и будешь лежать; хоть не твоя в том вина и воля, и не наша вина и воля, что мы не хотим того, чего не можем}.