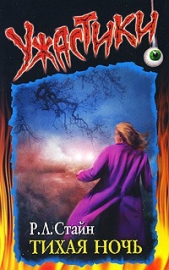Милые мальчики

Милые мальчики читать книгу онлайн
Российским читателям еще предстоит проникнуть в мир Реве — алкоголика, гомосексуалиста, фанатичного католика, которого привлекали к суду за сравнение Христа с возлюбленным ослом, параноика и истерика, садомазохиста и эксгибициониста, готового рассказать о своих самых возвышенных и самых низких желаниях. Каждую секунду своей жизни Реве превращает в текст, запечатлевает мельчайшие повороты своего настроения, перемешивает реальность и фантазии, не щадя ни себя, ни своих друзей.Герард Реве родился в 1923 году, его первый роман «Вечера», вышедший, когда автору было 23 года, признан вершиной послевоенной голландской литературы. Дилогия о Милых Мальчиках была написана 30 лет спустя, когда Реве сменил манеру письма, обратившись к солипсическому монологу, исповеди, которую можно только слушать, но нельзя перебить.В оформлении обложки использован кадр из фильма Поля де Люссашта «Милые мальчики».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(В памяти моей вновь кое-что всплывает. Ах, как давно все это было… Внезапно мне вспоминается, что, записывая на белоснежных страницах того толстенного кондуита ***ской гимназии города А. свое имя и дату появления на свет, я обнаружил, что между ними мне полагалось вписать слово natus. Не просто «родился в…», а именно natus: natus для существ мужского рода, nata — для женского. Можно было бы на мгновение предположить, что я по ошибке или из-за того, что моему имени надлежало появиться сразу после имени какой-то девочки, я чуть не написал слово nata вместо natus. Но нет, я написал просто и без тени сомнения — natus. Ну да — просто? Вообще-то я каким-то образом чувствовал, что это полная чушь, что в целом тут что-то не так, что я с тем же успехом могу сей же час покинуть школу; но я никогда не сумел бы облечь это чувство в слова, как бы страстно я этого ни желал).
Глава пятая
Один в постели
— Итак, Вольфганг стоит рядом со мной на углу улицы, на самом краю широкого тротуара, наискосок от школы домоводства. Мы стоим подальше от входа, чтобы не бросаться в глаза. Он замечает ее, когда она выходит из широких ворот школьной велосипедной стоянки — в тот самый момент, когда мы проходим мимо школы. Заведя велосипед на край тротуара, она остается у входа, а мы проходим дальше. Я вижу, как Вольфганг смотрит на нее, как его взгляд обшаривает ее фигуру. «Не знаешь, кто это?» — «Узнаем, Kommandant[67]». Мы говорим по-немецки, поскольку благодаря моей открывшейся к тому времени способности к языкам я понимаю все, что он говорит, и по-немецки же излагаю ему все мои собственные соображения. Мы проходим еще немного, и там, на углу, где-то через дом-другой, останавливаемся и оборачиваемся. Она все еще там. Только теперь я замечаю, что велосипед у нее мужской. Не знаю, уделяет ли Вольфганг особое внимание этому факту. Но он смотрит на нее, ведь смотрит, Господи боже… Разглядывая ее, он вдруг смущается, и им овладевает беспокойство.
— Здесь мы можем стоять совершенно спокойно, — говорю я ему по-немецки. — Куда нам спешить? Побудем здесь. Любуйся, сколько хочешь. — Признаки собственного помешательства уже явственно заметны у меня в штанах, в носовом кубрике, когда я смотрю на Вольфганга, не сводящего глаз с гибкой, вызывающей девичьей фигуры у входа на стоянку. И, в свою очередь, обегая взглядом его ловкое, молодое солдатское тело, я замечаю, что ствол его штурмового тарана под мягкой тенью застежки щекотно-шершавых и все же бархатно-мягких военных брюк уже приведен в полную боевую готовность.
— Она кого-то ждет, — говорю я — и это, похоже, в самом деле так. — «Тебя», — разумеется, подмывает меня добавить, — «тебя», — и, разумеется, я этого не добавляю.
— Мне это не так чтобы уж очень интересно, — сообщил Мышонок.
— В этот момент, Мышонок, совершенно случайно — а может, и нет — именно в эту самую секунду, когда мы с Вольфгангом стоим и пялим глаза на углу, в каком-то метре от школы, мимо проходит этот самый мальчик. Он тоже останавливается. А вообще-то нет, это была не случайность.
— Какой еще мальчик?..
— Ее брат. Младший братишка, которого она использует и гнуснейшим способом унижает, заставляя его служить инструментом для ублажения ее греховного, распутного сластолюбия — это сокровище, бедный, несчастный голубочек, Мальчик-одиночество…
— Ну и как же его зовут?
— Э-э… Братишка… Ну, конечно, это не имя — да ведь мы же все равно пока не знаем, как там его кличут… Я говорил тебе, Мышонок, что Вольфганг поразительно хорош собой, и малыш Патрик — блядовитая маленькая тварь, разъебай одиннадцати с половиной лет — сынок этой домоводческой шлюхи, Коринны — я имею в виду ту самую, которую Вольфганг восхотел столь беспомощно — он тоже красавчик, эта мокроносая продажная задница — одиннадцать с половиной! — он такую неукротимую страсть в тебе разбудил бы, если б ты его увидел, но все это — ничто, ничто по сравнению… с… Братишкой… Нельзя сказать, что Братишка красив… Да, хорош, дивно хорош, ослепительно хорош, конечно — да ведь никаких слов тут не хватит. Его наружность — не просто человеческая внешность… Его явление — это откровение, хотя и остается видением сокровенным… Мышонок, послушай… Вольфганг, тот просто голову потерял от этой Коринны — в любом случае у него на нее просто фатально стоит, на эту шалаву дешевую, а мы с тобой, оба — ты и я, разумеется — немного влюблены в Вольфганга, хотим мы того или нет — это более чем нормально; что до меня, то я, согласно собственному грешному пристрастию, просто заболел этим маленьким проблядком неполных двенадцати лет, Патриком, который и в тебе вызвал бы головокружительную страсть, если бы ты только увидел его, Мышонок, потому что ты — мужчина, никуда не денешься, и ничто мужское тебе не чуждо… но… послушай… Возлюбим Братишку втайне… будем оберегать его и… поклоняться ему… даже если он нас… отвергнет… я имею в виду… — внезапно я совершенно отчетливо вспомнил, как звали Братишку в действительности. У него было два имени. Оба они мне были известны, но что-то — к счастью, с достаточно убедительной силой — подсказывало мне, что называть их, по крайней мере сейчас, нельзя.
— Откуда он взялся? Сколько ему лет?
— Он появился именно в тот самый момент: это она, Коринна, так ему велела. По ее приказу он должен в это время, не раньше, не позже, ждать ее у школы. Каждый божий день он обязан ее хоть раз… Я должен тебе сказать, Мышонок, должен признаться — перо мое отказывается выводить чудовищные слова, описывающие их деяния — в том смысле, что язык мой вряд ли осмелится выговорить… Каждый божий день он должен… с ней… своей собственной сестрой… для этого они сбегают в пустое заброшенное здание бутыломоечной фабрики… И он, Братишка, наш Братишка… должен подчиняться ей и творить с ней беззаконие, которое она, ненасытная вурдалачица, жаждет и вымогает у него, и он не смеет ей отказать, поскольку больше всего на свете боится, что тогда она воспрепятствует ему встречаться с малышом Патриком, которому он предался всем своим юным, невинным, беззащитным сердцем… Ведь он любит малыша, который ни на волосок не лучше его потаскухи-матери… и он так печален, Братишка… но до чего хорош, до чего мил, этот Юноша воистину красы все-печальнейшей…
— Сколько ему лет?
— Э-э… двадцать. Еще год до совершеннолетия. На первый взгляд его можно принять за Вольфганга, но нет, он другой. Чуть тоньше в кости, в нем больше мальчишеского, хотя и мужского немало… Его снедает тоска, но сила духа у него — неслыханная, так что держится он молодцом. У него — изумительные темные, глубоко посаженные глаза… Движения его гибкого юношеского тела слегка скованны, я бы даже сказал — неловки, и все же исполнены неслыханной мужественности — я бы так это назвал. Он подходит к школе и останавливается — премило одетый. Почти всему, что он носит, присущ довольно глубокий, очень темный оттенок лилового — чуть ли не черного, какой бывает, когда солнце ненадолго скрывается в тучах. Но туфли у него совсем черные… На нем — простые, темно-лиловые холщовые брюки и самая обычная короткая курточка из той же ткани и того же оттенка, что и брюки, а также белая рубашка и серый галстук. Никаких излишеств в туалете: этакая царственность, возносящая его над толпой…
— Этого еще не хватало, господи Иисусе…
— Не знаю, Мышонок, любишь ли ты людей вообще. Мне кажется, ты вполне довольствуешься ублажением сексуальных нужд своих гениталий — вот этих самых штуковин, что болтаются у тебя между ног. Сомневаюсь, чтобы ты в действительности, в глубине души, еще где-нибудь, кроме как вот тут… — тыльной стороной ладони — в сущности, сильнее, чем намеревался — я дал Мышонку крепкого тычка в предмет его мужской гордости, так что он чертыхнулся и, скорчившись, быстро отпрянул на край постели.
— Вечно ты… Вечно этот бред собачий… это хрен знает что типа «вот входит такой-то сякой-то» и «там стоял тот-то и тот-то»!..