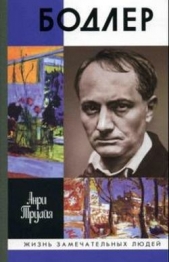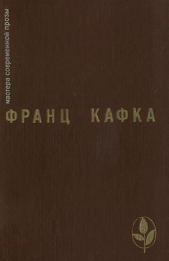Гибель всерьез
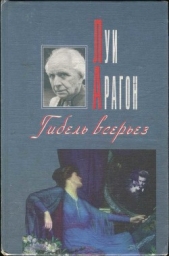
Гибель всерьез читать книгу онлайн
Любовь и смерть — вечная тема искусства: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот, Отелло и Дездемона… К череде гибельно связанных любовью бессмертных пар Луи Арагон (1897–1982), классик французской литературы, один из крупнейших поэтов XX века, смело прибавляет свою: Ингеборг и Антуана. В художественную ткань романа вкраплены то лирические, то иронические новеллы; проникновенная исповедь сменяется философскими раздумьями. В толпе персонажей читатель узнает героев мировой и, прежде всего, горячо любимой Арагоном русской литературы. Но главное действующее лицо "Гибели всерьез" — сам автор, назвавший свой роман "симфонией зеркал, галереей автопортретов художника в разных ракурсах".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как бы то ни было, я согласился показать Омеле на конкретном примере, что я имел в виду в длинном отступлении о романе-зеркале, достал из красной папки рукопись, предусмотрительно отложив верхний лист, на котором стояло имя Антоана Бестселлера, откашлялся, чтобы прочистить горло, и начал:
— Рассказ называется «Эхо». Эпиграф…
— Ну, уж нет! — перебила Ингеборг и выхватила у меня рукопись. — Здесь, кажется, все разборчиво напечатано, я лучше прочту сама, доверюсь своим, а не вашим глазам! Посмотрим, что это за преодоление реальности…
Что ж, я вышел из дому, оставив госпожу д’Эшер одну в гостиной, где тихо бормотало радио, и она, расположившись в малиновом кожаном кресле, которое, если приставить пуф, легко превращалось в удобную кушетку, уставилась в рукопись рассказа «Эхо» — чем не иллюстрация к моему отступлению о романе-зеркале! Мне было страшно неловко и, пытаясь заглушить это чувство, я отправился к букинистам, заходил то в одну, то в другую лавку, листал старинные и более или менее новые книги и разговаривал с книгопродавцами: люблю послушать этих последних носителей культуры, без которой мне было бы трудно прожить и которая обречена исчезнуть еще при нашей с Антоаном жизни, если мы доживем до той поры, когда в этом презренном мире восторжествуют идеи, которые и я, и он как будто бы должны разделять.
Идеи… ради них мы живем, а то и умираем ради них. И чем они оборачиваются… Родись я, к примеру, китайцем, я бы страдал, боролся, мечтал, увлеченный идеей, и наконец увидел бы ее воплощение в жизнь… К чему я это говорю? Передо мной сегодняшняя газета (ты читал? — спросил меня букинист, из породы тех людей, о которых я говорил, — из тех, кто знает все на свете и ухитряется отыскивать на свалке нашей цивилизации золотые крупицы несуетных мыслей… — читал вот это? — и протянул мне газету, с текстом где-то и кем-то произнесенной речи, на целый лист мелким шрифтом, и в ней как раз об этом… во всяком случае, в том месте, которое он показывал, а сам принялся выколачивать трубку о край скамьи — мы с ним стояли перед дверями его лавки, расположенной в двух шагах от населенных молодежью и вечно шумных кварталов, в удивительном уголке большого города, похожем на чудом сохранившийся островок средневековья, который называется двором Рогана…), и вот сегодня, дождливым осенним днем, когда ветер треплет красные листья дикого винограда, я читаю:
«… ныне страсти кипят вокруг так называемой «революции в Пекинском оперном театре», которому предъявлены требования изъять из репертуара все спектакли, где действуют императоры и короли, так как их появление на сцене означает «восхваление феодальных и буржуазных порядков». Артистам предписано «влиться в ряды пролетариата», ибо он — «единственный источник, способный вдохновить подлинное искусство и литературу». Всеобщее восхищение вызывает тот факт, что каждая восьмая картина современных китайских художников навеяна произведениями великого Мао Цзэдуна. Вопросам культуры посвящены выступления многих членов Политбюро и других лидеров китайской компартии. Один из них требует исключить из арсенала искусства «гнилую, ложную, надуманную и упадочническую чувствительность, которой пропитаны истории о юных влюбленных». Другой обрушивается на советского режиссера Чухрая, объявляя, что все три его фильма: «Сорок первый», «Баллада о солдате» и «Чистое небо» — заражены «духом абстрактного гуманизма и буржуазного пацифизма».
Ожесточенным атакам прессы подвергается директор одного института, преступно утверждающий, будто диалектика признает принцип не только «разделения целого на части», но и «слияния частей воедино». Извращая и сводя к механистической догме диалектический закон единства и борьбы противоположностей, китайские идеологи пытаются с помощью «принципа разделения целого» подвести теоретическую базу под свою деятельность по расколу международного движения».
Да, родись я китайцем… впрочем, меня, кажется, больше всего задела эта история с «разделением» и «слиянием». В силу совсем иных, чем у оратора, личных причин. А может, причины в чем-то и схожи. Если попристальней вглядеться. Да, именно вглядеться.
Первый рассказ из красной папки
Эхо
Где я и в каком времени? Широко раскрытые глаза упираются в темноту — наверно, ночь, или, может, я ослеп. А время… как разглядеть циферблат, даже если часы не остановились? Я не слышу их пульса, но это ничего не значит: такое уже было, и оказалось, что тогда я оглох. Одеон 84–00… пытаюсь нащупать знакомый белый предмет на столике у изголовья, но тщетно — должно быть, кто-то его отодвинул, или его больше нет, не осталось вообще ничего белого на свете? Да и что я узнаю, услышав точное время, — только час, но не день, месяц, год, не место, где я нахожусь… Однажды… давным-давно… случилось так, что мой мозг на какое-то время отключился, остановилась кровь в сосудах, а я не заметил затмения. Я сидел, погрузившись в ванну, и вдруг открылась дверь и вошла Эхо. А с ней вернулось время, и снова заработало сердце, как будто она протянула руку и завела пружину у меня на затылке. «Поторопись, — сказала она, — сейчас придет портной примерять костюм». И странный разговор завязался между нами, странный, потому что в памяти Эхо не было провала, и мозг ее работал беспрерывно, точно стрекочущая пишущая машинка, ей не надо было шарить рукой, набирать «Одеон 84–00»… тогда как из моей жизни внезапно выпали три недели, я потерял, забыл их и не осознавал пропажи.
Хоть бы включить свет, нащупать выключатель, но я и провода не нахожу… а, впрочем, для чего искать? Допустим, я найду свой белый телефон на мраморной столешнице, узнаю, который час: пусть три или четыре, и что же? Пропасть остановившегося мгновенья, что поглотила в прошлый раз целых три недели, я так никогда и не измерил. Конечно, постепенно я их восстановил и как бы прожил заново, но сомнения еще меня, хоть я старался не подавать виду, а поначалу просто притворялся, что припоминаю, освежаю в памяти — венские дни и другие события тех недель; мне не хотелось пугать Эхо, и я хитрил, как мог, так что мои собеседники даже не догадывались, что я их допрашиваю, выуживаю из разговора то, чего не знаю. Использую их, как «Одеон 84–00». А потом я и сам забыл, что когда-то многого не помнил. И теперь уж мне самому не разобрать, как говорит Эхо, «где выдумка, где правда»… Мне, непрофессионалу, не под силу отличить в собранном заново ожерелье дней настоящие рубины от поддельных. Вот и теперь, когда я вопрошаю пустоту, ищу в потемках «Одеон 84–00», ничто не может подсказать, очнулся я от простого сна или, как в прошлый раз, вынырнул из небытия, вернулся в прервавшееся время, ничто и никто, разве что откроется дверь, войдет Эхо, и по ее взгляду и голосу я пойму, что между краем моей памяти и этим пробуждением обычный ночной сон и передо мною новый день, как новый, очередной выпуск романа-фельетона, который я просто развернул слишком рано, чуть выбившись из суточного ритма.
Я все ищу выключатель на проводе, которого нет и в помине, и вдруг понимаю, что само слово «выключатель» звучит для меня, как одно из тех мнимых воспоминаний, которые я воссоздавал после случая в ванной, как нечто из пересказанной, а не прожитой реальности; как будто кто-нибудь рассказывает вам о путешествии по дальним странам, где вы никогда не бывали, которых никогда не видели воочию. Я словно бы забыл, какую вещь обозначает слово «выключатель», осталась только звуковая оболочка. Так может быть, на этот раз я не утратил слов, но забыл их смысл.
Нет. Или если и забыл, то не все. Например, Эхо… я помню ее имя, я утопаю в ее свете; как бы далеко ни унеслась она во сне, — она, лежащая со мною рядом, — я скорее забуду имя, которое сам же ей и дал, словно сменил камень в оправе моего романа, но не ее самое; забыть ее? — нет, никогда. Слова и магические заклинания не имеют к ней ни малейшего отношения. И даже это имя «Эхо», которое ей неловко выговаривать, и она упрекает меня, что я нарочно выдумал такое, — не столько слово, обозначающее ее, как, например, слово «нож» обозначает нож-предмет, а нечто вроде ее фотографии, ее отражение, хотя, конечно, далеко не совершенное, но движущееся вместе с нею, как тень… Я давал ей множество имен, вслух и втихомолку, и каждое из них — не заклинание, не телефонный номер, вроде «Одеона», а память о незабываемом, единственно-незабвенном в мире, о том, что куда важнее знать, чем точный час, — множество имен набралось за целую жизнь, одно всегда скрывалось за другим, скрывалось то от посторонних глаз, то от нас самих в дневной суете; есть, например, такое, которым я зову ее средь бела дня, в толпе, которое выкрикиваю во весь голос, не выдавая настоящего имени, потому что оно… но может ли имя быть настоящим, а разве не самое настоящее — то, которое я даю ей сейчас, сию минуту? На ее настоящее имя, слишком известное, слишком много говорящее о нас обоих, все стали бы оборачиваться, вот и пришлось изобрести другое. А Эхо — ночное имя. Которого не слышит и она сама, которым я зову ее в часы бессонницы. Эхо — не телефонный номер вроде «Одеона», а память о незабываемом, о том, что важнее, чем точная дата: час, день, месяц, век… Найти выключатель на проводе. Но что такое «выключатель»? — помню слово, но не помню смысла, это, кажется, что-то такое, за что я брался левой рукой, что-то связанное со временем, только не помню как, и это что-то я обхватывал левой рукой, как шелковистое колено или тонкую лодыжку Эхо, если повернусь… мне вдруг так ясно представилось это прикосновение, что я застыл с повисшей в пустоте рукой, забыв обо всем. А что до выключателя, вдруг эта штука зашумит или зашевелится и разбудит мою Эхо, уж лучше подождать…