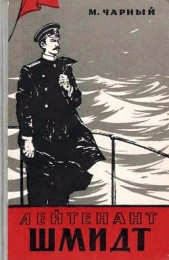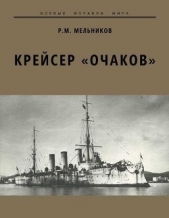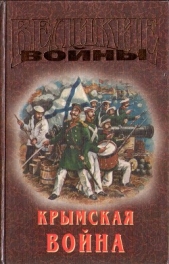Крымская повесть

Крымская повесть читать книгу онлайн
Повесть о революционных событиях 1905–1900 гг. в Крыму, о восстании на крейсере «Очаков». В основе сюжета «Крымской повести» — история создания и спасения картины «„Очаков“ в огне», которая была написана в полные драматизма дни Севастопольского вооруженного восстания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осужденных подвели к столбам, врытым у могил, хотели завязать им глаза. Но все четверо отказались. Перед командой «пли» Сергей Частник крикнул:
— Прощайте, Петр Петрович!
— Прощайте, друзья! — ответил П. П. Шмидт.
Через два дня из Петербурга во все города России полетела телеграмма за подписью министра внутренних дел П. Дурново. «Губернаторам и градоначальникам. Никакие демонстративные панихиды или демонстрации по поводу казни лейтенанта Шмидта ни под каким видом не должны быть допускаемы».
Получил подобную телеграмму и Ялтинский градоначальник, новоиспеченный генерал Н. А. Думбадзе. Но он и сам догадался, еще до инструкций из столицы, распорядиться, чтобы в гимназиях не прекращали занятий в память о Шмидте, на улицах не пели «Вы жертвою пали» и «других песен предосудительного содержания». Все пытался предусмотреть Н. А. Думбадзе, даже о пении вспомнил. Только о живописи расторопный генерал позабыл. А она-то и доставила ему немало хлопот!
Зауэр капитулирует

— Что именно? — спрашивал Владимир. — Как это — противоположное? Написать такую картину, которая наводила бы на мысль, будто Вселенная — явление временное, а бесконечны и бессмертны лишь пациенты «Оссианы»? Чего конкретно вы хотите?
— Но я же сказал, — тряс щеками Зауэр. — Мне нужно спокойное море, а вы изготовили море, которое собирается через час или через два делать шторм.
— Да откуда вы взяли такое? Какая волна, какой оттенок, какое сочетание тонов наводит вас на такие мысли?
— Вот эта волна, и еще эта, — говорил Зауэр, тыча пальцем в полотно. — Они еще не сердитые, но которые собираются сердиться. Как это по-руссишь? Есть такое слово… но я забыл… Ага — притаившиеся, которые сейчас заволнуются, кинутся на берег и устроят здесь безобразие.
Владимир возражал, что Зауэру лишь мерещится подобное, а его восприятие картины слишком субъективно.
— А у моих пациентов восприятие есть объективное, что ли? — горячился Зауэр. — Каждый пациент есть субъект. Следовательно, и его восприятие картины тоже есть субъективное. Им нужно спокойное море.
— Что за логика? — пытался возражать Владимир. — Так я могу заявить, что каждый пациент есть объект, а потому его восприятие объективное.
— Какой объект? Объект чего?
— Ну, например, объект лечения… Или же объект эксплуатации со стороны хозяина пансионата. Ведь вы же с них взымаете плату, вдвое превышающую стоимость лечения!
— Ого! — воскликнул Зауэр. — Это попытка вести среди меня пропаганду! Я требую, чтобы вы мне приготовили спокойное, совсем спокойное море. Иначе буду жаловаться вашему хозяину.
Но господин Симонов после гибели дочери стал безучастен ко всему на свете, включая жалобы на собственных служащих. Зауэр долго втолковывал Симонову, что мир стоял и будет стоять на основах частной инициативы и частном предпринимательстве, а потому нельзя поощрять такие действия и такие слова, какие разрешает себе Владимир. Он не выполнил заказ, за который ему обещано хорошее вознаграждение. Это уж не забастовка. Это бунт!
Господин Симонов махнул рукой:
— А почем вы знаете, что говорите дело? Может, никакого предпринимательства и частной инициативы вовсе и не надо? До сих пор жили так, а с завтрашнего дня будем иначе… Мало ли что!
— Как такое можно понять? У вас магазин, фотография… Вы не имеете права единолично, не согласовав это с нами, плевать на святые принципы!
— А мне все равно наплевать! — заявил господин Симонов. — На святые принципы, на мой магазин и на мою фотографию. Сгорели бы они однажды!
Зауэр ушел, а Симонов пригласил Владимира в кабинетик.
— Умучил тебя немец?
— Ничего, отобьюсь!
— А то — возьми у меня. Швырни ему в лицо задаток. Пусть катится подальше вместе со своими деньгами, пансионатом и теориями!
— Спасибо, Александр Семенович, за участие, но, думаю, как-нибудь разберусь с Зауэром.
— Смотри… Ведь мне теперь все ни к чему — ни магазины, ни деньги, ни фотография. Хочешь, на тебя завещание составлю? Ну-ну, не хмурься! Знаю, что гордый. Сам был когда-то таким же. Только на собственные руки да на смекалку надеялся. И вроде не напрасно, а теперь видишь, как все обернулось.
Симонов открыл тумбочку стола. Послышалось характерное глухое позвякивание плохого стекла, так отличающегося от малинового звона хрусталя — горлышко бутылки ударилось о край граненого стакана.
Владимир возвратился в свою каморку и сел за станок ретушировать негативы. Пластинки были стандартные. Да и сюжеты одинаковые: два брата, сосредоточенно глядящие в объектив. Отец сидит в креслах, сын стоит за его спиной. У обоих на лицах — торжественность и умиление самими собой — тем, какие они нарядные, праздничные, совсем настоящие господа. Или же две подружки — полосатые блузки, украшенные воланами и прошивками, с бантами или перьями… Почему-то любили фотографироваться группами. Уж не потому ли, что в одиночку страшно появляться перед объективом? Будто бы сам себя отдаешь на суд времени.
Владимир работал чисто механически: где надо, соскребал ланцетом черноту, в других местах кисточкой наносил белила. И все виделись ему красноватый отблеск взрыва на месте, где только что плясал на волнах катер, лучи прожекторов, упершиеся в зияющие пробоинами борта горящего крейсера. И девушка с рукой, протянутой к выключателю. Никогда уже он не увидит ее глаз, не услышит голоса: «Лишь я одна тебя люблю! О, вспомни, вспомни, милый мой!» И не договорить того, что недоговорено, не спросить того, чего не успел спросить. Понять это было не так-то просто.
Несколько дней назад он попробовал спросить Александра о Марии. Тот вскинулся на подушках — бледный, тревожный.
— Кто рассказал? Спартак? Шуликов?
— Я не думал, что это секрет.
— Нет, не секрет. Но тема запретная.
Вот теперь, наверное, и для него, Владимира, девушка в проеме двери — тема запретная.
Внезапно на фоне окна прописался профиль Надежды. Палец, обтянутый коричневой лайкой, стучал в стекло. Владимир жестом показал, что сейчас выйдет на улицу, сложил отретушированные негативы в конверты, убрал станок, оставил на столе записку, что будет работать дома, хотя господин Симонов никогда не требовал от него такого рода отчетов, и снял с вешалки плащ.
Зима была теплой. Правда, в самом начале декабря на перевалах и даже в Алуште выпал было снег, но тут же стаял. И теперь к середине дня воздух прогревался настолько, что по набережной можно было ходить без шапки и в сюртуке.
— Здравствуйте, вы совсем по-летнему. Накиньте хотя бы плащ.
— Тепло, — ответил Владимир.
— Я только что от Зауэра. Он сочиняет вам письмо. «Не имея возможности вызвать на дуэль, вынужден вызвать в суд…» Или же что-то в таком роде.
— Если решится на дуэль, то узнайте у него, что он предпочитает: пистолеты, шпаги, дубинки или же обычные кулаки?
— На моих глазах вы становитесь другим человеком. — И быстрый, скользящий взгляд из-под полей шляпы. — Это, может быть, самое интересное из того, что я наблюдаю в своем затянувшемся ялтинском сидении. В вас просыпается нечто дремавшее, наверное, где-то в глубине души. Неожиданная твердость. Я бы даже сказала — агрессивность. Я вспоминаю Людмилу Александровну и ее слова…
— Поговорим о другом, — прервал ее Владимир.
— Извините, — сказала Надежда. — Но поверьте, я вам друг. Хотя, видимо, бесполезный. Странно все… Люди встречаются, находят друг друга, чтобы тут же потерять… Я о нас с вами… Как давно мы не были на этюдах! И боюсь, никогда уже на них не выберемся. Что происходило с вами во время отсутствия в Ялте — загадка. Сами вы молчите, не хотите рассказывать… А дни уходят. Они невозвратны. Ушел день — и не окликнуть его, не вернуть назад. Я живу только единым мигом. Стараюсь не пытаться заглянуть в будущее. Вы — иначе. Я это вижу, чувствую. Вы напряжены, постоянно в каких-то думах. А почему бы нам с вами сейчас не позабыть обо всем и не отправиться, к примеру, в ресторан «Франция»? И если нам с вами вечер понравится и запомнится, так это же будет подарком судьбы, тем, что у нас уже никто и никогда не отберет, о чем можно будет вспомнить с милой улыбкой в глубокой старости, даже на пороге ухода в мир иной… Вижу, вам не до всего этого. Над чем работали в последнее время, кроме заказа для Зауэра?