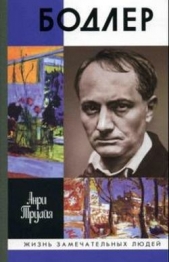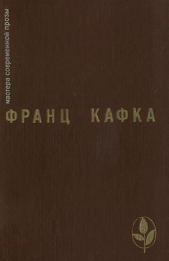Гибель всерьез
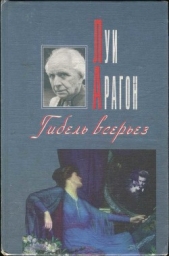
Гибель всерьез читать книгу онлайн
Любовь и смерть — вечная тема искусства: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот, Отелло и Дездемона… К череде гибельно связанных любовью бессмертных пар Луи Арагон (1897–1982), классик французской литературы, один из крупнейших поэтов XX века, смело прибавляет свою: Ингеборг и Антуана. В художественную ткань романа вкраплены то лирические, то иронические новеллы; проникновенная исповедь сменяется философскими раздумьями. В толпе персонажей читатель узнает героев мировой и, прежде всего, горячо любимой Арагоном русской литературы. Но главное действующее лицо "Гибели всерьез" — сам автор, назвавший свой роман "симфонией зеркал, галереей автопортретов художника в разных ракурсах".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что все-таки она там делает? Наверно, в спешке оставила распахнутыми все двери; о, кажется, я знаю: подобно ребенку, которому надо высказать кучу разных вещей — такую охапку, что еле умещается в руках, и он бежит со своей ношей по всему дому, стараясь ни за что не зацепиться, не врезаться в косяк, открывает и придерживает двери ногой, чтобы они не хлопали и не ударяли его в спину, поднимается с этажа на этаж, по лестнице с зияющими щелями, — подобно этому ребенку, нетерпеливо ищет выход голос, он пробует себя, сбивается, вновь крепнет, пульсирует, сначала просто шепотом, далеким эхом, невнятным напевом в такт шагам, словно бесхитростное переплетение прутиков, предрассветный птичий сон, смутное воспоминание, настройка инструментов перед игрой оркестра, и вдруг в меня проникает гармония, меня захватывает нечто стихийное, оно растет, разливается, как боль, и стоит мне поддаться этой стихии, я не волен в себе, она берет меня в плен силой волшебного оружия, перекрывает мою собственную фантазию и непостижимым образом подчиняет меня твоему произволу, вовлекает в вихрь иной жизни, где мне позволено лишь слушать, претерпевать все новые, непредсказуемые потрясения, упиваться откровениями, стирающими все, что хранилось в памяти; меня, как провинившегося мальчугана, ведут за ухо вон из самого себя, через все, дотоле запертые, покои моей души в воображаемый мир — а мир привычный тотчас вянет и бледнеет, — ведут через пеструю толпу, в которой сам я превращаюсь в призрака, через сплетенье мыслей, похожее на стремительные объятия любовников, и по тому, как судорожно сжимается горло, отнимаются руки, замирает сердце, пресекается дыхание, как жажду я внимать еще и еще, как боюсь: вдруг все оборвется, кончится, замолкнет и останется прежняя размеренность дыхания, — я понимаю, что рожден лишь для того, чтобы слушать эту нескончаемую исповедь, научился стоять и ходить лишь для того, чтобы дойти до этой минуты, лишь для того вылеплено мое тело, вместилище души, лишь для того познал я историю былых веков и стран, человеческих злодеяний, возвышенных идей, пережил бури, недуги, тысячу раз рисковал сгореть, исчезнуть, умереть от горя, собственноручно разорвать себя на части, испытал голод и войну, клевету и предательство, вытерпел пытки, плевки, зуботычины и многое другое, чего не могут передать слова, — лишь для того, чтобы настала эта минута, когда я, распростертый у подножья лестницы, ведущей к тебе, слушаю, как ты поешь, Омела, и растворяюсь в голосе твоем… Нет больше ни меня, ни всех моих романов, несчастных книжек, где, как чудом из чудес, я восхищаюсь зеркалом без амальгамы, игрою отражений…
Как гнут тростник ловкие пальцы плетельщика… так твои уста плетут из любой материи корзинки, кружева, круженье и крушенье, и каждая простая фраза источает легкий аромат твоего дыханья, вот, кажется, оборвалась, но нет, подхвачена опять, слова слетают, точно лепестки. Мелодия так хороша, что море готово умереть от зависти! Где я? Где то, что, помнится, было моим иссушенным временем и жаждой телом? Теперь я занавеска на окне, которую колышет твоя песнь, я трепещу, взметаюсь, опадаю, послушный прихоти озвученного ветра, я — слабый след полуистершихся письмен, я — кромка берега молчанья, которую захлестывают волны музыки, прилив все выше, и все сумбурнее моя душа… Не сам я выбрал свою участь: родиться и страдать, не выбирал ни времени, ни места. Я не хотел ни этой крови, ни этого смятенья!
Ты слышала, Омела, ты слышала, что я сказал? Что вырвалось? Ну да, была война, была война!
* * *
Чем сновиденье отличается от воспоминанья? Это было задолго до войны… той, которую все имеют в виду, когда говорят «война»…
Я ничего не знал об этой женщине, «одна женщина»… — сказал приятель, остальное было мне тогда неважно, остальное я пропустил мимо ушей: в то время, ввиду того что мне предстояло, выбирать было недосуг и не стоило противиться соблазну — как знать, не последнему ли. Ты не поймешь, ведь в тот вечер передо мной прошла в обратном порядке вся моя жизнь, и я ясно увидел все свое неразумие, все упущенные возможности и потери, все, что было загублено и оплакано, горько оплакано. Как рассказать об этом вечере, чтобы ты его увидела моими глазами? Тебе покажется, что я говорю о каких-то пустых мелочах, и ты подумаешь: только-то и всего, а на самом деле каждая мельчайшая подробность: какая рюмка стояла на столике, как распахивались и долго еще болтались дверцы красного дерева из большого зала в бар, пропустив очередного посетителя, — все, даже необычное для кафе в этот час безлюдие, полно для меня особого смысла и равносильно событию, все пустило корни и протянулось сквозь всю мою жизнь, связало прошлое и будущее, на всем лежит печать судьбы. Не знаю, быть может, и это сон? Все очень похоже: так же отчетливо и бессвязно. А как передать сон изнутри?
Приятель сказал, что придет женщина, я даже не уверен, что расслышал ее странное имя, впрочем, оно ничего мне не говорило — какая разница, женщина да и все, — и я ответил: хорошо, в пять часов, завтра, или послезавтра, не помню, но, кажется, был вторник — да и вообще я никогда особенно не слушал, что плетет этот самый мой приятель, разве что забавы ради он врал так же легко, как дышал, или наоборот: дышал, как врал, и никто не возмущался, за исключением, может быть, одной особы, которая была когда-то моей хорошей знакомой, а замуж вышла за него и уже к концу первого года, верно, сыта была его россказнями по горло, но это только так, догадки со стороны. Я начал свою историю, и оказалось, что изнутри рассказывать еще труднее; не успел приступить — посыпались частности, подробности, начнешь их разъяснять — и дойдешь чуть не до сотворения мира, переберешь всех, от Ноя до… не знаю, как будут звать последнего, кто останется на земле после нашего апокалипсиса… вот, пожалуйста, распахивается дверь… нет, там, кажется, был турникет… и является кто угодно, хотя бы тот же приятель, упомянувший о женщине, и я машинально принимаюсь рассказывать о нем: как он женился, как однажды поехал в Голландию и что он больше любит: джин или мандариновый ликер. Понимаешь, я увязаю, погружаюсь вглубь и путаюсь, как морская звезда в своих пяти лучах; ведь сама звезда не ведает, сколько у нее лучей и как они расположены, это можно увидеть только со стороны.
Ничего рассказать невозможно. Нам кажется, что мы прекрасно знаем то, о чем собираемся рассказать, но стоит подойти вплотную, как все начинает сверкать, рябить и слепить. Что за нескладные создания эти звезды! Куцые, корявые конечности, то она их растопырит, то подожмет, цвет наложен кое-как, вся в слизи, похожа на непрошеную жирную муху, разгуливающую по белому листу бумаги. Невозможно рассказывать изнутри. К тому же мне самому и так известно, что было дальше, а кто еще станет меня слушать? Ах да, ты… Но тебе я, верно, успел уже сто раз пересказать все по кусочкам в краткие мгновения наших долгих ночей без сна. Знать бы, что из этого вечера запало в душу тебе. Единственное, о чем ты вспомнила за столько лет, — что на мне был короткий пиджак и темные, блестящие на заду, как лакированный рояль, брюки. Тебе смешно? Не смейся.
В этом неуютном зале, с высоченным потолком, каком-то слишком глубоком и узком, главной фигурой был бармен: в полной тишине — даже радио не бубнило у него за спиной, еще не настали те времена — медленно, монотонно он перетирал стакан за стаканом, ни минуты передышки, никаких тебе кроссвордов, работа без простоев, не то что у какого-нибудь шофера, — он мне врезался в память, этот бармен, бледный, как тепличный овощ, с синюшными губами и широченными плечами вышибалы… так же ясно помню и неприбранные столики, пепельницы с рекламными надписями, обтянутую зеленой клеенкой стойку, а перед ней табуреты на высоких ножках, будто паучья семейка собралась покутить. Когда же я доберусь до себя! Кажется, всю жизнь только и делаю, что дожидаюсь самого себя, живу, будто на вокзале. Когда сидишь и что-нибудь нервно теребишь. Или крошишь пальцами что попало, например чипсы. Я все время что-то делаю машинально. То есть бесконечно проделываю одно и то же. Например, разговариваю с кем-нибудь, а мои пальцы в это время живут сами по себе, сжимаются, разжимаются… собеседник смотрит и думает: держу пари, вот сейчас он снова примется крошить чипсы. И я снова крошу чипсы. В самом деле, какой-то бред, я же хочу наконец рассказать, что было в тот вечер. А пальцы, как лунатики, опять и опять за свое. Бармен придвинул мне блюдечко маслин. Я не люблю их, но он даже не спросил. Он вообще не говорит. И не слушает, что говорят ему. Устал, давно устал слушать одно и то же. Ему все едино. Он отстранился. Он ничего не понимает, вернее, давным-давно все понял и так хорошо, что все уже неинтересно. Ничто уже не завлечет его внутрь, в глубину происходящего. И звезды он видит со стороны: безупречно правильными. С пятью равными лучами. Его занимает только одно — время, которое показывают часы в высоком деревянном футляре, похожем на маленький гроб; снизу — маятник за стеклом, сверху — циферблат, он следит за стрелкой, только часовой — минуты неважны; вот нужный угол между стрелками, долгожданный час: полотняную куртку долой, скорей достать из шкафчика нормальную одежду, пиджак и шляпу как у всех людей. В ту пору без шляпы на улице ему было не обойтись, а может, он прихватывал и плащ — смотря по погоде. На черта сдался мне этот бармен, когда решается наша жизнь, моя и твоя, хоть мы еще ни о чем не подозреваем. Все до мельчайших подробностей полно особого смысла. У меня, как всегда, карманы были набиты старыми письмами и конвертами с рваными краями, они уже рассыпались в прах, эти вести из мира чужих и не совсем чужих людей. Я бездумно отщипывал пальцами кусочки от первой попавшейся бумажки: может, письма, которого я когда-то так долго дожидался, а может, какого-то наброска, записанного наспех стихотворения, что ж, значит, больше мне их не прочесть. А это что: обрывок бечевки, точилка…