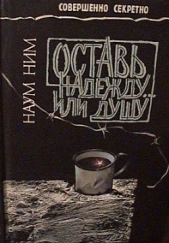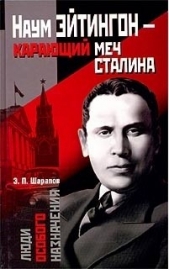Золотые россыпи (Чекисты в Париже)

Золотые россыпи (Чекисты в Париже) читать книгу онлайн
Роман выдающегося украинского писателя В. Винниченко написан в эмиграции в 1927 году.
В оформлении использованы произведения художников Феликса Валлотона и Альбера Марке.
В нашей стране роман публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И снова, пролившись в потоке тел на улицу, в кислую, жёлто-бурую муть, Терниченко останавливается и думает: куда пойти, чем заполнить эту гнетущую пустоту? Купить разве добрую бутылку русской водки, кусок колбасы, и отправиться домой, и заткнуть горячим чадом эту воющую дыру?
И вот, не снимая пальто, разломив хлеб руками, Терниченко мрачно сидит за столиком и из стакана для зубной щётки пьёт русскую, сделанную в Париже водку. А в дыре всё воет голодное отвращение, глупая, непонятная тоска. Горячий чад нудной накипью клубится в груди, распирает её тоской по чему-то. По чему же, будь ты всё проклято? Чего тебе нужно? Нет ничего, всё выжато, сломано, развеяно! Капнуть хочешь? Так капай же, какого чёрта! Или ещё водки? На!
И Терниченко не совсем уже уверенной рукой наливает полный стакан и опрокидывает в дыру.
Леся не берёт авто. Пряча лицо в мех, она тихо идёт вдоль уличной стены, не глядя уже на витрины. Капли с крыш падают ей на шляпку и на плечи, ноги попадают в лужи, прохожие толкаются, туман мокро лижет нос и щёки. А во всём существе ощущение ужасной, неожиданной катастрофы.
Так человек выходит из банка, куда зашёл проверить, сколько у него денег на текущем счету, а ему сказали, что произошла ошибка: родственник-богач открыл текущий счёт не ему, а другому человеку. У него же нет ни текущих, ни «стоящих» счетов, нет ничего. И все расчёты, планы, мечты, построенные на этом текущем счёте, — сплошная ошибка.
«Только та не была стриженой». Тут уж ясно, что не она. Она всего лишь «хороший человек», с которым, растрогавшись, можно поделиться своей радостью. И только. Теперь можно уничтожить «весеннюю рощу», повыбрасывать все куклы и безделушки, содрать покрывала и декорации. Он явный, несоменный чекист, убийца и вор, у которого заговорила совесть. Вот и всё. Сам сказал, сам сорвал все драпировки, сам всё уничтожил. Значит, конец.
Но от этого словца перед склонившейся душой Леси разверзается вдруг что-то столь чёрное, безрадостное и тоскливое, что она останавливается посреди тротуара, беспомощно оглядываясь по сторонам. Прохожие сердито обходят её, осматривая с ног до головы.
И вот она уже стремительно мчится вперёд. Нет, нет, тут что-то не так. Это не может быть Соня, не может, ради Бога! Так не говорят и не ведут себя с той, на которую молятся. Она же только что видела всё своими глазами.
Ах, да всё равно! «Только та нестриженая». Что же теперь? А Мик? А Финк ель? А всё порученное ей дело? Всё же гибнет, разваливается, как выстроенные ею декорации.
«Только та не была стриженой»! Эта вульгарная деталь, эта несомненная, кричащая подробность. И как она натуральна, как психологически точна: представил ту, сравнил с этой, и разница бросилась в глаза.
Леся устало останавливается возле какой-то витрины и тупо смотрит на галстуки, элегантно завязанные на мужских сорочках.
И вдруг ей становится тоскливо-спокойно. А, собственно, что стряслось? Сама себе придумала что-то смешное и глупое, а жизнь его сдула. Прицепилась к какому-то уголовнику, сотворила из него героя, устроила в мечтах институтскую комедию и теперь распустила слюни, как самая настоящая дура. Ведь ничего путного и не могло выйти из этой сентиментальной выдумки, кого бы он в действительности ни любил, этот жалкий «герой», её или ту, стриженую. Этот детский домик рано или поздно всё равно развалился бы.
Единственная реальность и настоящая неприятность — то, что нельзя добраться до его документов. Вот это действительно досадно, чёрт бы его побрал! И вина тут её. Вместо глуповатых выдумок надо было вести себя как Сонька, без бирюлек и сантиментов. И пусть бы молился на неё, а не на Соньку или на кого там, а она во время молитвы вытащила бы у него бумаги. И оказалось бы золото в её руках, а только оно подлинно и ценно в жизни.
Но что сказать Мику, Финкелю? Как развалить их домики, их «Ателье Счастья», виллы, авто, Комитеты освобождения человечества?
А самой, значит, завтра-послезавтра выезжать из пансиона, перестать быть профессорской дочкой, чистой вдовушкой и возвращаться в гостиничку к Мику, к самой себе, к той, что была там?
Леся зябко ёжится, отрывается от витрины и ищет глазами такси. Только дома ли сейчас Мик?
Мик дома. Но, Господи, в каком виде, в какой обстановке! Конечно, в пальтишке своём, жёваном, мокром, с поднятым воротником. Волосы серожелтыми слипшимися перьями торчат во все стороны. Толстые губы — масляно-красные, а всё лицо — синевато-бледное. И стеклянные, пьяные, дикие глаза.
В комнате густой, кислый, холодный дух. Кровать смята, взбита, в буграх. На столе, прямо на газете, куски колбасы, хлеба, сыра. И недопитая бутыль водки.
— Леська? Тю! Гурра!
Он вскакивает, слегка покачнувшись, и бросается к Лесе, размашисто раскрыв объятия.
— Вот спасибо! Гениально придумала! Ты герой, ей-Богу!
Губы мокрые, руки больно сжимают плечи, нестерпимо пахнет плохой водкой. И всё тут такое болезненно чужое и горько своё.
— Раздевайся! Холодно у меня? Чёррт, камин не греет. Да я зажёг другой и немножко согрелся. Хочешь рюмашку? Выпей! Чёрт побери всё!
Леся снимает шляпку и бросает на кровать. Волосы, прижатые шляпкой, сбились в сторону спутанной кипой.
«Только та нестриженая была».
— Налей! Только побольше!
Мик зверем бросается на бутылку и радостно наливает полный стакан.
Леся, с отвращением поправив толстые косы, отходит от зеркала, берёт стакан и начинает пить водку как воду, запрокинув голову и опустив на лицо длинные густые ресницы. Выпив до дна и сразу же побледнев, берёт с бумаги кусок колбасы и жадно жуёт вместе со шкуркой.
— Браво, Леся! Герой! Сегодня к чёрту святость! Сегодня я раскис было. Леська. Ну, отошёл. Ничего. Всё — ерунда. А что ты пришла, так это сверхгениально. Давай и я выпью по такому поводу!
Но водка, как ведро нефти, вылитое на погасший костёр, где ещё тлели искры, вдруг вздымает целое пламя обжигающей тоски. Весь пепел сдут, отлетел в стороны — остаётся только этот огненный жар. А вокруг — та же чернота и безнадёжность.
Мик, выпив и утершись пальцем, вдруг придвигается со стулом к Лесе и сильно обнимает её за плечи.
— Соскучилась? А? Леська? Монастырь малость пресноват? А?
И он наклоняет к себе всё её тело вместе со стулом.
Леся, однако, испуганно выскальзывает и отодвигается на другой конец стола.
— В чём дело, Леся? Хворенькая, что ли?
Леся болезненно морщится.
— Не надо, Мик. Подай мне сыр. Ты что сегодня делал?
Мик молча подаёт сыр и внимательным, пьяным взглядом водит по Лесе.
— Вот тебе и раз! А я обрадовался, что ты пришла. А она, видишь ли. в святые записалась.
Он масляно улыбается, тяжело встаёт и подходит к Лесе, опираясь о стол. Леся с удивлением ощущает, как всю её передёргивает от отвращения при одной мысли о том. что совсем ещё недавно она совершала с такой полуравнодушной привычностью. Теперь же каким-то святотатством кажутся одни эти улыбки, объятия, намёки Мика.
А он снова размашисто обнимает её одной рукой за плечи, а другой грубо задирает лицо к себе и наклоняется с поцелуем. Но Леся с силой вырывается, вскакивает со стула и отходит к двери. Мик ничего не понимает.
— Тю! Леся! Да что такое? Глянь-ка! Нельзя сегодня, что ли?
Леся хмуро, сердясь и на себя, и на Мика, морщит брови и поправляет
снова сбившиеся набок проклятые косы.
— Сядь, Мик, и не нужно этого. Слышишь? А то сейчас же уйду.
Мик послушно садится и даже кладёт свои огромные руки на колени.
— Уже сижу. Хватит. Прости и не сердись. Нельзя, так нельзя. И даже спасибо, что просто так пришла. Ну, садись, не бойся, хватит.
Леся садится, попутно мягко и благодарно гладя взъерошенные перья Мика. Он ловит её руку и целует подчёркнуто почтительно.
— Может, хочешь есть? Я сбегаю куплю что-нибудь. Нет? Нет, так нет. Спасибо, что сидишь. Я немножко, Лесенька, раскис сегодня. Ей-бо! Такая штука. Чёрт его знает, сам не понимаю, отчего. Сижу тут в одиночестве и хоть волком вой. Эх, Леська, помнишь наши рассветы на Украине? Летом? Седые, росистые, с мурашками по телу. А чисто как, а блаженно! А, Боже мой, Боже мой! Отправляешься за снопами, например. Воз тарахтит, подпрыгивает, аж под грудью саднит. А какой-нибудь Сидор или Илько сидит по-дамски на грядке и что есть силы погоняет лошадей. А галушки? Палочками вытаскивать. И юшка такая густая, солёненькая, с поджаренным лучком. Ой, сто пятьдесят эскалопов отдал бы за одну миску галушек!