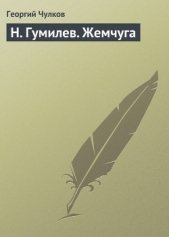Голубой чертополох романтизма
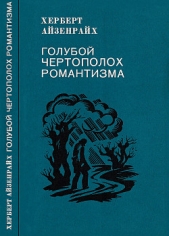
Голубой чертополох романтизма читать книгу онлайн
Херберт Айзенрайх принадлежит к «среднему» поколению австрийских писателей, вступивших в литературу в первые послевоенные годы.
Эта книга рассказов — первое издание Айзенрайха в Советском Союзе; рассказы отличает бытовая и социальная достоверность, сквозь прозаические будничные обстоятельства просвечивает драматизм, которым подчас исполнена внутренняя жизнь героев. В рассказах Айзенрайха нет претензии на проблемность, но в них чувствуется непримиримость к мещанству, к затхлым обычаям и нравам буржуазного мира.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я тоже, — сказал я.
Я спросил, чем, по его мнению, кончится мое дело, и он сообщил мне с довольно-таки хмурым видом:
— Вообще за это полагается самое малое месяц, но мы уж как-нибудь сведем все к двум неделям. Две недели условно. И, разумеется, возмещение убытков. Чего ты, собственно, надеялся достичь этим гробокопательством?
— Сам не знаю, — ответил я. — Может быть, я надеялся найти какое-нибудь кольцо, цепочку, амулет — какую-нибудь вещицу, которая могла бы дать ключ к разгадке.
— Да ведь это была чужая могила — ради ста шиллингов сторож не пожелал трудиться и показал тебе первую попавшуюся.
«Фальшивая челюсть», — подумал я.
Выпив рюмку коньяку, я простился с Редлингером и вышел на улицу. И мне сразу же захотелось вернуться…
Эта история произошла, когда я был во втором классе. Мне дали дома несколько грошей, и я решил купить сигарет.
«Дайте самых дешевых, на все деньги — меня послал один дяденька, он там, за углом», — так я сказал табачнице, а по дороге из школы выкурил все шесть сигарет, вернее, сосал их и давился дымом. На улице я фасонил перед другими ребятами, а когда вернулся домой, чуть не отдал богу душу. У меня началась рвота, мама уложила меня в постель и вызвала врача. Ребята наябедничали учителю и, когда на следующее утро я все-таки явился в школу, принялись меня дразнить: «Курец-молодец! Курец-молодец!» Недели две после этого (а может быть, всего несколько дней) я пребывал в уверенности, что все знают, как я опозорился, насмешливо указывают на меня пальцем и думают при этом: «Вот он, этот курильщик, вы только поглядите на него!» И я не решался смотреть людям в глаза — целых две недели (а может быть, всего несколько дней). Вот и теперь мне сразу захотелось вернуться в тот дом, в темную переднюю, но только мне было уже не семь лет, а почти двадцать восемь. Я двинулся дальше, напряженно думая о том, куда мне податься — в Вельс, к тете Ренате или в Вену. Но, подойдя к кассе вокзала, я вдруг спросил билет в Эннс. Чей-то чужой голос — он принадлежал мне — сказал: «До Эннса». Говорят, что, когда у человека на языке вертится какое-то слово и ему наконец удается его вспомнить и произнести, он испытывает чувство подлинного счастья или по меньшей мере избавления. Я сказал: «До Эннса», и меня охватило это чувство.
У калитки небольшой виллы на Вокзальной улице все еще висела табличка с фамилией ее матери. Калитка была заперта, и я позвонил: тогда она появилась в дверях и спустилась по ступенькам с крыльца; на ней был светло-серый фартук с пестрой каймой. «Значит, она замужем», — подумал я. Дойдя до нижней ступеньки, она узнала меня, но не покраснела и не побледнела, не схватилась за сердце, не закричала — ведь мы не виделись целых десять лет, — а только ускорила шаги, отодвинула засов и сказала:
— Надо опустить руку за забор и нащупать засов — тогда можно не звонить.
Я все смотрел на ее руки — искал обручальное кольцо, но хорошенько рассмотреть ее смог, только когда она взялась за ручку двери — кольца не было. Я спросил:
— Как вы поживаете — вы все?
— Хорошо, — ответила она. — Правда хорошо. — И улыбнулась. На минуту мне показалось, что она плачет. — Мама умерла два года назад, — продолжала она. — Второй этаж я сдала, мы живем внизу. Полдня я работаю в конторе у Габлонца — так и живем помаленьку.
Окно гостиной выходило в сад, и я увидел мальчика, игравшего там в одиночестве: так вот он, мой сын. Я смотрел на него, но не испытывал никаких чувств. Это был рослый для своих девяти лет, стройный белокурый мальчик с открытым лицом. Я продолжал смотреть на него и судорожно старался вызвать в себе какое-нибудь чувство к ребенку — любви или хотя бы неприязни, но ничего у меня не получалось. Пока я так мучился, она спросила, можно ли сказать мальчику, что я его отец. Я ответил: «Да», сам не знаю почему, может быть, боялся ее обидеть. Мы вышли в сад, и она сказала ему, кто я. Он уставился на меня своими большими пытливыми глазами и долго, долго не отводил взгляда. Лицо его просветлело, словно озаренное огнем, вдруг вспыхнувшим где-то глубоко внутри; казалось, на меня смотрит теперь огромный пылающий глаз. А во мне ничто не шевельнулось, ничто, чем бы я мог откликнуться на эту радость. В саду стоял стол для пинг-понга, и мы стали играть в пинг-понг. Я и сам неважный игрок, а он играл много хуже меня и загонял мячи невесть куда. Превосходство было на моей стороне, и когда я спросил его, какой счет, то услышал в ответ:
— Девять три в вашу пользу.
И тут я увидел, как он покраснел — будто кто-то выплеснул ему в лицо целую лохань красной краски. Я поспешно наклонился — завязать ботинок — и пробурчал что-то насчет «проклятого узла». Это был мой сын, и он говорил мне «вы». Я не стал ему ничего объяснять, а подошел к ней и сказал:
— Лучше мне опять уйти.
Она едва слышала, что я сказал; она стояла как зачарованная, погрузившись в воспоминания, глаза ее смотрели куда-то сквозь меня, и только через минуту она спросила, усилием воли стряхнув оцепенение:
— Куда?
— Назад, — сказал я и понял, что сам не знаю куда.
Теперь, только теперь я понял, какую чудовищную ошибку совершил, пустившись на поиски прадедушки. Более того: я понял, почему принялся за эти поиски. И вот я побежал обратно в сад и сказал мальчику, который перестал быть фигурой умолчания в моих планах, а стал моим сыном:
— Продолжим игру!
— Да, папа, — ответил он.
Я выиграл с небольшим превосходством: 21:18, зато все остальные партии выиграл он, хотя я всячески старался ему не уступать. Вечером она сказала:
— Когда-то я вышла замуж за мальчишку, теперь я обрела мужа.
— Сломленного человека, — сказал я.
— Мужа, — повторила она.
Через несколько дней мы пошли взглянуть на казарму, в которой я тогда стоял, и я никак не мог узнать то место, где мы так часто с ней целовались. Потом мы спустились к реке, в которой прежде купались; мы искали место, где лежали тогда, но не могли его найти. Собственно, это было для нас уже совсем не важно, ведь теперь все стало по-другому. Я с самого начала хотел ей все рассказать, но каждый раз путался и сбивался. Только теперь я могу говорить об этом и рассказывать, как все произошло.
Мы живем в Вене, я окончил университет и работаю в библиотеке; мой сын уже юноша, в кабинете у себя он держит бутылку сливовицы — это его собственность — и курит английскую трубку, которую привез ему дядя Бен. А вчера вечером, когда я, погасив свет, стоял у раскрытого окна и глядел на нашу тихую окраинную улицу, вчера вечером я услышал стук шагов — шаги двух человек по мостовой; они затихли у дома наискосок от нас, и, прежде чем я успел отвернуться, я увидел, что это мой сын и девушка из того дома. И когда они целовались, казалось, это уже не он и не она, а нечто третье, Новое. Тогда я пошел к себе в комнату и под спокойным, умиротворенным взглядом дедушки, взиравшего на меня с портрета, сел писать этот рассказ.
Благо дурной молвы
Генри Говертсу
В доме нашем, когда в него той ночью попала бомба и все квартиры вплоть до второго этажа сгорели, жило двенадцать семей. Точнее говоря: девять семей, два холостяка и одна вдова. Жили мы все в этом доме довольно давно и уже неплохо друг друга знали: встречались ведь не только на лестнице, на заднем дворе и в общей прачечной, но и в магазине, и в табачной лавочке, и в кабачке, что прямо через улицу, и в церкви по воскресеньям, а в последнее время, ясное дело, и в бомбоубежище. Вот уже лет десять никто из дома не выезжал и никто в него не вселялся, квартиранты, правда, у вдовы Зигель и у Ковальских время от времени менялись, но квартиранты не в счет. У вдовы тогда как раз вермахтовский чиновник жил и еще студент-медик — демобилизованный инвалид, а у Ковальских ютилась беженка, что кормилась вязанием на машинке, муж ее был на фронте, а дом разбомбили раньше нашего. За эти десять лет в доме два человека умерли, трое родились да один раз сыграли свадьбу — вот и все чрезвычайные события. Словом, тихий, спокойный был дом, заселенный солидными, основательными квартиросъемщиками. И тем не менее, хотя никто из обитателей не прятал у себя евреев и не жил в незаконном браке, хотя не было среди жильцов ни танцовщицы варьете, ни депутата рейхстага, да что там — даже пьяницы или на худой конец истерички, — тем не менее все в доме постоянно что-то выведывали и вынюхивали, потихоньку о чем-то сплетничали и судачили. И, пожалуй, одна только фройляйн Клара решительно ничьего любопытства никогда всерьез не возбуждала.