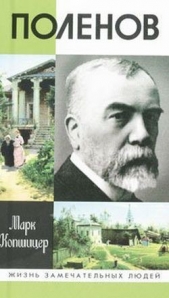«То было давно там в России»
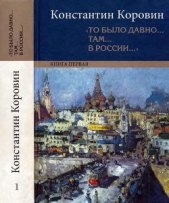
«То было давно там в России» читать книгу онлайн
«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.
Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.
В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Молодец, — сказал, смеясь, Сорокин, закрывая глаза от смеха. — Ну только что же это такое? Где же бревна?
— Да не надо бревен, — говорю я. — Когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотрите на бревна — то там видно в общем.
— Верно, что-то есть, но что это?
— Вот что-то есть — свет. Вот это нужно. Это и есть. Весна.
— Как весна, да что ты? Вот что-то я не пойму.
Я стал проводить бревна, отделяя полутоном, и сделал штампы сосен.
— Вот теперь хорошо, — сказал Сорокин. — Молодец.
— Ну вот, — ответил я. — Теперь хуже. Суше. Меньше горит солнце. Весны-то меньше.
— Чудно. Вот оттого тебя и бранят. Все ты как-то вроде, как нарочно. Назло.
— Как назло, что вы говорите, Евграф Семенович?
— Да нет, я-то понимаю, а говорят, все говорят про тебя.
— Пускай говорят, только вот довести, все соединить, трудно, — говорю я. — Трудно сделать эти весы в картине, что к чему. Краска к краске.
— Вот тут-то вся и штучка. Вот что. Надо сначала нарисовать верно, а потом вот как ты. Раскрасить.
— Нет, — не соглашаюсь я.
И долго, до поздней ночи, спорил я с своим милым профессором, Евграфом Семеновичем. И посоветовал я ему показать это Василию Дмитриевичу Поленову.
— Боюсь я его, — сказал Евграф Семенович. — Важный он как-то.
— Что вы, — говорю я, — это самый простой и милый человек. Художник настоящий, поэт.
— Ну и не понравится ему моя дача, как Алексею Кондратьевичу. Чудаки ведь поэты.
— Нет, — говорю. — Он не смотрит на дачу. Он живопись любит, не сюжет.
Конечно, дача не очень нравилась, но не в том дело. Цвет и свет важно, вот что. И я сказал Сорокину:
— Свет.
— А ты знаешь, я никогда об этом не думал. Пейзаж — это, я так полагал, — дай, попробую, думаю — просто…
Уходя от Сорокина, он простился со мной, смеясь, сказав:
— Ну и урок. Да, задал ты мне урок, — и он сунул мне в карман пальто конверт.
— Что это вы, Евграф Семенович?
— Ничего, возьми. Это я тебе… годится.
Я ехал домой на извозчике. Я вынул и разорвал конверт. Там лежала бумажка в сто рублей. Какая была радость…
Частная опера Мамонтова [136] в Москве открылась в Газетном переулке в небольшом театре. С. И. Мамонтов обожал итальянскую оперу. Первые артисты, которые пели у него, были итальянцы: Падилло [137], Франческо и Антонио д’Андраде. Они скоро сделались любимцами Москвы. Но Москва враждебно встретила оперу Мамонтова. Солидно деловое купечество говорило, что держать театр председателю железной дороги как-то не идет. С. И. Мамонтов поручил И. И. Левитану исполнение декораций к опере «Жизнь за Царя». А мне «Аиду» и потом «Снегурочку» Римского-Корсакова [138]. Я работал совместно с В. Н. Васнецовым [139], который сделал прекрасные четыре эскиза декораций для «Снегурочки», а я исполнял остальные по своим эскизам. Костюмы для артистов и хора Васнецова были замечательные. Снегурочку исполняла Савина [140], Леля — Леватович [141], Мизгиря — Малинин, Берендея — Лодий, Бермягу — Бедлевич. «Снегурочка» прошла впервые, и ее холодно встретила печать и Москва. С. И. говорил:
— Что ж, не понимают.
Васнецов был вместе со мной у Островского. Когда Виктор Михайлович говорил ему с восторгом о «Снегурочке», Островский как-то особенно ответил:
— Да что… Все это я так… Сказка…
Видно было, что это дивное произведение было интимной стороной души Островского. Он как-то уклонялся от разговора.
— Снегурочка, — говорил он, — ну разве вам нравится? Я удивляюсь. Это так я согрешил. Никому не нравится. Никто и знать не хочет.
Меня очень поразило это. Островский, видимо, так ценил это свое мудрое произведение, что не хотел верить, что его кто-то поймет. Это было так особенно и так рисовало время.
А Римский-Корсаков даже не приехал в Москву посмотреть постановку. Мамонтов был очень удивлен этим. Говорил мне:
— Знаменательно. Эти два больших человека, Островский и Римский-Корсаков, не верят, что их поймут, не допускают мысли, так же, как и Мусоргский не верил и не ценил своих произведений. Холодность и снобизм общества к дивным авторам — это плохой признак, это отсутствие понимания, плохой патриотизм. Эх, Костенька, — говорил мне Савва Иванович, — плохо, косно, не слышат, не видят… Вот «Аида» полна, а на «Снегурочку» не идут, и газеты ругают. А верно сказал офицер [142]:
— Большой и умный был человек Лермонтов, — сказал Савва Иванович. — Подумайте, как странно: я дал студентам университета много билетов на «Снегурочку» — не идут. Не странно ли это? А вот Виктор (Васнецов) говорит — надо ставить «Бориса», «Хованщину» Мусоргского [144]. Не пойдут. Меня спрашивает Витте, зачем я театр-оперу держу, это несерьезно. «Это серьезнее железных дорог», — ответил я.
Он, конечно, очень удивился, но приятно, когда и по железной дороге едут люди. Искусство — его не так много, это не одно развлечение только и увеселение. Если б вы знали, как он смотрел на меня, как будто на человека из Суконной слободы. И сказал откровенно, что в искусстве он ничего не понимает. По-моему, это только увеселение. Не странно ли это, — говорит Мамонтов. — А ведь умный человек. Вот и подите. Как все странно.
Императрица Екатерина, когда было крепостное право и она была крепостница, на здании Академии художеств в Петербурге приказала начертать: «Свободным художествам». Вельможи заволновались. «Успокойтесь, вельможи, это не отмена крепостного права, не волнуйтесь. Эта свобода иная, ее поймут те, которые будут иметь вдохновение к художествам». «А вдохновение имеет высшие права». Вот Консерватория тоже существует, а в Императорских театрах отменяют оперы и не ставят ни Мусоргского, ни Римского-Корсакова. Надо, чтобы народ знал своих поэтов и художников. Пора народу знать и понимать Пушкина. А министр финансов говорит, что это увеселение. Так ли это? Когда будут думать только о хлебе едином, пожалуй, не будет и хлеба.
С. И. увлекался театром. Русских артистов он старался оживить. В опере он был режиссер и понимал это дело. Учил артистов игре и старался объяснить им то, что они поют. Театр Мамонтова выходил какой-то школой. Но печать, газеты были придирчивы к артистам, и театр Мамонтова вызывал недоброжелательство. У Мамонтова в репертуаре были поставлены новые иностранные авторы: «Лакмэ» Делиба, где пела партию Лакмэ знаменитая Ванзанд. Также был поставлен «Лоэнгрин» Вагнера, «Отелло» Верди, где пел Таманьо, певцы Мазини, Броджи, Падилла — все лучшие певцы Италии пели в опере Мамонтова [145].
Москва была богата и избалована. Не только Москва, но даже Харьков имел в летнем сезоне итальянскую оперу, и труппа Мамонтова была и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе.
Довольство жизнью было полное. Рынки были завалены разной снедью — рыбой, икрой, птицей, дичью, поросятами. Железные дороги были полны пассажиров. Промышленность шла, Россия богатела. Рынки были завалены товарами, из-за границы поступало все самое лучшее. Заграница была в моде, и много русских ездило за границу. Это считалось как бы обязательным. Летние сады развлечений были полны иностранными артистами — оперетка, шансонетки, загородные бега и скачки, рестораны были полны посетителями, где пели венгерские, цыганские, румынские хоры. Летом большинство жителей Москвы уезжало на дачи, которые были обильно настроены в окрестностях Москвы. Там жизнь велась в природе. Москву в жару не выносили, уезжали на дачи. Оставшихся в Москве считали мучениками. Но странно, несмотря на довольство жизнью, многие из поместий и городов стремились уехать за границу. Меня это удивляло. Неужели лето за границей было лучше, чем в России? Нет. В этом было что-то непонятное. Я нигде не видал лучше лета, чем в России, и не знаю моря и берега лучше Крыма. Но Крым считался «не то», чего-то <не> хватало. «Не рулетки ли, — думал я, — или баккара [146], которые были запрещены в России?»