Факультет чудаков
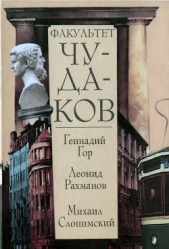
Факультет чудаков читать книгу онлайн
Повести Геннадия Гора, Леонида Рахманова, Михаила Слонимского написаны в конце двадцатых — начале тридцатых годов прошлого века. Изящная фантазия соседствует в них с точно выписанной реальностью советской, набравшей силу эпохи. Знаменательно, что все три писателя в поздние годы своей жизни стали наставниками молодой «ленинградской школы» прозаиков. Двое из них — Андрей Битов и Валерий Попов — сопроводили книгу тонкими эссе о своих учителях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что вам надо? — крикнула она, ужасно махая рукой. — Разве вы не знаете, что этот сад генерала, что это дети генерала!
Он шарахнулся. Он подбежал к забору с таким видом, точно в него кидали камнями. Тут его окружили дети.
— Что вам надо? — брезгливо закричали они, ужасно махая руками. — Разве вы не знаете, что этот сад генерала, что это дети генерала?
И он перемахнул через забор, за которым были его жизнь, его расстрелянный брат, будущая победа и неузнанный, не пойманный и неразоблаченный еще провокатор.
Колобков был уже дома. Он вошел в свою комнату, выражением которой был холст, натянутый на подрамник. Холст был загрунтован и хрустел, как снег. Он призывал к работе. Эпизод был выбран, и, казалось, оставалось только выжать из тюбика краску и взять кисть. Но он не был гениальным импровизатором с длинными, как у попа, волосами, из тех, которые берут в руки кисть раньше, чем карандаш, и сначала пишут, а потом обдумывают уже написанное, уверенные, что они пишут так, как поют птички. Но он не был также представителем тех художников, которые не находят ничего лучшего, как копировать художественные образцы предыдущего или отражать ничем не провинившиеся рощи и пруды, подражая прудам же, вообразив себя зеркалом природы. Вообще, собираясь писать, он не собирался что-либо копировать. Ему были чужды статичные картины в духе передвижников или тех наивных реалистов, которые, к сожалению, существуют и теперь, куски холста с изображением людей, вырванных из действительности, изолированных, как восковые фигуры, мнимое действие которых должны были пояснять надписи и социальную принадлежность — предметы, их окружавшие. Он не собирался писать ни таких плотников, которые были плотниками только потому, что в их руках были топоры, ни таких партизан, которые были партизанами только потому, что у них в руках были берданки, а на шапке — звезда, ни таких белогвардейцев, которые были белогвардейцами только потому, что у них в руках были нагайки, а на плечах погоны. Выбранный им эпизод он собирался диалектически развернуть на полотне, опустив незначительное и выделив основное, не абстрагируя какой-либо один момент восстания, а изобразив все главные моменты, не только последовательно связанные один с другим, но и друг в друга переходящие. Углем он набросал на полотне фигуры основных участников восстания, оставив без лица фигуру провокатора. Тут он остановился и с досадой бросил уголь на пол. Ему ничего не стоило написать вымышленное лицо для фигуры провокатора. Но тогда картина, оставаясь произведением искусства, перестала бы быть документом. А он мечтал о такой картине, которая не только призывала бы к ненависти и борьбе, но помогла бы найти и разоблачить конкретного, живого провокатора, которого он искал вот уже тринадцать лет и не мог найти.
Он положил линейку, отошел от картины и лег на диван. Не мог же он изменить не привычке, а всему своему существу, и начать писать картину, которая не была готова в его голове, потому что он не мог вспомнить физиономию не какой-нибудь эпизодической личности, а физиономию самого провокатора. Забыв на минуту свой замысел, он постарался вспомнить события этого дня. Собственно говоря, сегодня не произошло никаких событий в его жизни, если не считать встречи с гражданином, неожиданная фигура и лицо которого представляли удивительно удачную карикатуру на современную буржуазную живопись и советского бюрократа одновременно. Он вспомнил его всего. Сначала простое, как лицо идола, лицо, на котором самостоятельно жил нос, квадратные лежали глаза, и неподвижные слушали губы. Потом фамилию его: Бородкин. Немного погодя, его усмешку. И уже в заключение свое чувство, вызванное этим абстрактным гражданином, нелепое чувство человека, который хочет узнать и не может. И тут ему пришла в голову мысль, которая заставила его вскочить с места. Ведь он видел только видимость и даже не видимость, а маску, в то время как подлинное лицо, так же как и сущность абстрактного гражданина, осталось ему неизвестным. Неугомонная, как приятель, эта мысль гнала его вон из комнаты, дергала за рукав, толкала в бок, вела по лестнице, торопила и, казалось, даже бранилась. Она заставила вскочить его в трамвай и, отдавив какому-то гражданину ногу и прищемив какой-то старушке хвост, выскочить из трамвая. Она заставила его перебежать площадь, не обращая внимания на свист милиционера, не переводя дыхания, подняться по лестнице для того, чтобы раскрыть дверь в адресный стол. Она заставила его втереться вне очереди, действуя локтями и языком, упрашивая, угрожая, для того, чтобы просунуть беспокойное лицо в окошко с вопросом: «Поскорее, адрес Бородкина».
Бородкиных в городе оказалось трое. Они жили в совершенно различных частях города и имели не похожие друг на друга имена. Одного Бородкина звали Франц, другого Бородкина звали Виктор, а третий Бородкин был просто Иван Иванович. Хотя художник Колобков не сомневался в том, что Бородкина, который был ему нужен, звали Франц или на худой конец Виктор (не могли же звать такого человека Иван Иванович), он записал спешащей рукой все три адреса.
Разумеется, первого он решил посетить Бородкина Франца. Хрипящий и покачивающийся, похожий на простуженного зверя, автобус повез его по узким улицам слободы. Он двигался медленно, этот автобус, наполненный рыхлыми, как овощи, обывателями, которым некуда было торопиться, а широкая спина шофера не могла же знать, что художник Колобков спешил так, как он никогда не спешил. Одна и та же тревожная мысль заставляла его то вскакивать с места, то садиться.
«А вдруг он скрылся, — думал художник Колобков, — он мог узнать меня, ведь ему хорошо знакома моя фамилия. И, кроме того, моя пристальность не могла не навести его на подозрение».
И как нарочно движение автобуса все замедлялось и замедлялось. Казалось, что он совсем не двигается, а на зло Колобкову стоит на одном месте. Приземистые и пузатые обывательские домишки с низкими, зелеными от дряхлости, стеклами всеми своими геранями и фикусами издевались над ним. Неподвижные, они смотрели морщинистыми и носатыми старушечьими лицами, посмеиваясь над ним своим единственным желтым зубом, выпученными лицами фотографий, всеми своими горбатыми деревьями и покосившимися, похожими на старушечьи рты, калитками. Они казались ему домишками Т-ска той ужасной, запомнившейся навсегда, ночи, лица старушек лицами т-ских старушек, лица калиток и деревьев лицами т-ских калиток и деревьев. И даже заборы, мимо которых он проезжал, казались ему давно знакомыми. Они выглядели так, как те заборы Т-ска, через которые он не перелезал, а перелетал, не ощущая ничего, кроме бьющегося сердца. И даже настроение его было совершенно такое же, точно время и разница не отделяли вчера от сегодня, разница, которая заключалась в том, что тогда он убегал, а теперь преследовал. И не только в том заключалась разница. Она врезалась в гущи трусливых домишек ломаной линией новостроек. Фабриками, похожими на дворцы, с широкими окнами и машущими вентиляторами, домами чистыми и блестящими, как фарфор. И не только в этом заключалась разница. Мелькая спицами, она катилась на тысячах своих шин, она висела в воздухе в виде антенн, летала в виде тысячи самолетов. Она сидела в виде художника Колобкова, который был художником, а не батраком, потому что между вчера и сегодня была разница. Не стесненный узкими уличками, автобус пошел быстрее. Колобков успокоился. Он не сомневался, он уже видел, как он приносит абстрактному гражданину по фамилии Бородкин законченную картину, где изображено его, Бородкина, лицо. Он следит за тем, как меняется настоящее лицо Бородкина, как оно из беспристрастного становится насмерть испуганным. И вот два лица смотрят друг на друга, похожие друг на друга, как лицо и отражение лица в зеркале. И вот это уже не два лица, а одно. И одно лицо — это лицо провокатора.
Здесь автобус остановился, и Колобков очутился на незнакомой ему улице. Не без труда он отыскал дом, в котором проживал Франц Бородкин. Взбираясь по лестнице, которая была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза, художник вспомнил одну из лестниц, описанную Гоголем. Дверь была открыта, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухню, что нельзя было видеть и самое хозяйку.


























