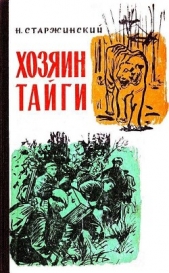Это случилось в тайге (сборник повестей)

Это случилось в тайге (сборник повестей) читать книгу онлайн
Анатолий Клещенко — ленинградский прозаик и поэт. Первые стихи его были опубликованы в 1937 году, затем он долгие годы работал на Северном Урале и в Приангарье на лесозаготовках, на рудниках, занимался промысловой охотой. Вернувшись в Ленинград, Клещенко становится профессиональным писателем, он автор нескольких стихотворных сборников и ряда прозаических книг. В декабре 1974 года А. Клещенко трагически погиб на Камчатке, где он последние шесть лет работал охотинспектором, собирал материал для своих новых книг.
В эту книгу вошли повести «Распутица кончается в апреле», «Дело прекратить нельзя», «Когда расходится туман» и «Это случилось в тайге». Действие всех повестей происходит в Сибири, герои Клещенко — таёжники, охотники, исследователи. Повести остросюжетны. В обстоятельствах драматических и необычайных самыми неожиданными гранями раскрываются человеческие характеры. Природа в повестях Клещенко поэтична и сурова, — писатель отлично читает ту сложную книгу жизни, в которой действуют его герои. Проза Клещенко — мужественная, добрая и человечная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— У меня?.. — Светка томно завела глаза, изображая раздумье. — У меня обыкновенные…
Она никогда не задумывалась, какие у нее взгляды. Вот глаза — карие, и ресницы красивые, длинные, это куда важней взглядов на жизнь. Про взгляды сказала просто так, а он к этому привязался… Как будто больше говорить не о чем!..
Даже самая долгоиграющая пластинка в конце концов умолкает. Музыка внезапно оборвалась. Люди оглядывались, как будто хотели увидеть, куда же исчезла она вдруг.
Валька предложил:
— Сядем?
— Стоит ли? Забыла эту пластинку. Кажется, на другой стороне тоже медленный фокстрот, да?
— Вроде бы так, — безразлично согласился Валька.
Вместо фокстрота тоскующий баритон с придыханием запел итальянское танго. Светка по-дирижерски взмахнула руками, качнулась с ноги на ногу, а когда Валька подхватил ее и повел, движением головы закончила отсчет тактов.
— А какие — обыкновенные… — напомнил Валька, — взгляды на жизнь?
Прикусив губку, Светка интригующе поиграла глазами, опять не забывая взмахнуть ресницами. И улыбнулась скорбно — зачем, мол, говорить о пустяках?
— Господи! — ответила она со вздохом мученицы. — Я же не Вера Вахрамеева, меня никакая мораль не интересует, можете не опасаться.
— Ого! — вырвалось у Вальки.
— Вот вам и «ого»!
— Это хорошо, если не опасаться, — он смелее привлек девушку к себе, спросил трепливо: — А что вы называете моралью? Можно уточнить?
— Моралью? Ну, всякие такие поступки. Например, ваши…
— Какие?
— А, ну эти же… Любые. По-моему, делайте что хотите, только… — она многозначительно поиграла глазами. — Только умейте делать. И — все!
Светка, словно эта музыка убаюкала ее, склонила голову. От этого темно-каштановая прядь, сбегавшая на ухо, переплеснулась на щеку и открыла маленькое родимое пятнышко. Розовое, — как наманикюренный ноготь. И Валька вдруг вспомнил, что видел точно такое у заготовителя Канюкова, когда кормил его, раненого, в тайге.
— Да-а, — протянул он, обращаясь к этому пятнышку, но как бы говоря с Канюковым. — Взгляды у тебя подходящие, с такими не пропадешь…
И, почти отшвырнув девушку резким поворотом корпуса, пошел, задевая плечами танцующих, к двери. Словно продирался через кустарник.
Ладью складывать не стали — зачем, если чуть свет трогаться надо. Накидали в обычный костер, когда жару нагорело достаточно, не скоро поддающегося огню березняка. Сырья. Занимается такое не враз, но тепла от него потом уйма. Правда, поправлять надо костер. Ну, да ежели спать некогда, беды в этом особой нет.
Спал или прихитрялся спящим один Ежихин. Поел, выкурил папиросу и, умостившись на охапке пихтового лапника, притих. Повернулся спиной к огню и как воды набрал в рот.
— Умаялся мужик, — глазами показал на него Александр Егорович.
Черниченко заталкивал в огонь выкатившееся из костра полено. Водворив его на место, отодвинулся подальше, заслоняясь от жара рукавицей, которую держал двумя пальцами, как держат что-нибудь мерзкое.
— Пекет? — спросил Александр Егорович.
— Картошки бы сюда, — помечтал следователь, слово «пекет» заставило его вспомнить о нехитром ястве.
— И двести бы грамм, — подхватил старик.
— Без двухсот граммов голова кругом идет, Александр Егорыч. Как у пьяного.
— Пошто?
— По то, что ни черта я не понимаю пока.
Еще один обгорелый кругляк скатился с горки таких же охваченных пламенем кругляков. Увлеченный током горячего воздуха, в небо метнулся сноп оранжевых искр. А оттуда, порхая мотыльками, начали падать хлопья серого пепла — то, чем стали искры. Теперь Александр Егорович принялся закатывать кругляк в пламя, используя для этого обгорелую хворостину. Управившись, сунул занявшийся конец хворостины в снег, а когда тот перестал шипеть, задумчиво сказал следователю:
— В том, парень, нет дива, что ты не понимаешь. Дивно, что я не понимаю. Заблудил!
— Да еще как основательно заблудился, старина, — согласился Черниченко. — От твоего предположения, что зверь был ранен кем-то другим, камня на камне не остается.
Александр Егорович кивнул, отчего отогнутые наушники его шапки мотнулись, как живые уши беспородной дворняги.
— Зверь вполне здоровущий был, пока его Валька не умотал, это точно. Но ты скажи, как он его выгнать в самую точку сумел, на Канюкова? Я, парень, такой хитрости объяснить не могу!
— Скажи лучше: не сумел, дал маху. Какая же тут хитрость?
— Какая? А ты испытай связчика на месте постановить и аккурат к этому месту пригнать сохатого.
Черниченко засмеялся.
— Опять заблудился, Александр Егорыч! У тебя уже Бурмакин с Канюковым вроде бы связниками стали!
— Ну не связниками пускай — а как? Раз вместях, значит, связники. По-нашему, по-таежному.
— Стой, стой, стой! Ты, никак, в самом деле считаешь, что Канюков и Бурмакин действовали сообща? Да ты чего, старина? А?
Сидевший на березовом полене Александр Егорович, не поднимаясь, а только переставляя ноги, неспешно повернулся к собеседнику. Свет костра падал теперь на него сбоку, и лицо старика казалось слепленным из двух разноцветных половин.
— Я ничего, — сказал он. — Следы — те чего. И ты, парень, их, однако, смотрел.
— Ну, смотрел…
— А пошто не понял?
— Так ведь и ты не понял, Александр Егорыч! Сам же говорил.
— Кто за кем шел — этого как не понять? Вон хоть Алексея разбуди — спросить. От ключа зверя Канюков погнал, а Валькина лыжня, где поверху канюковской не лежит, так вовсе от сакмы в стороне.
Черниченко пожал плечами, отчего накинутый на них полушубок сполз. Поправив его, следователь набрал в горсть волглого снега и, стиснув, выцедил воду. Рассеянно подбрасывая на ладони серый бесформенный комок, сказал:
— Тебе фантазировать легко, старина, а мне твои домыслы обосновывать да проверять надо. Есть ли у нас с тобой веские аргументы, чтобы…
— Чего нет — того нету, — перебил следователя старик, глубокомысленно хмурясь. — Действительно. Только и ни к чему они, я думаю… ну, эти самые, как ты сказал. Валька с Канюковым лыжами Своими все — как есть обозначили. В лыжах у них чуть не три пальца разницы, в ширине. Видать, где чьи расписались. Возле ключа Канюков Вальку сменил, к дороге зверя погнал. А Валька стал правей забирать, стороной. Лыжню делал, чтобы зверь не отскочил куда не следует, — зверь лыжни страх до чего боится. И от поселка, опять же, след в след шли оба, Канюков с Валькой.
— Канюков в милиции говорил, пока до больницы дозванивались, что он за Бурмакиным следил. По его лыжне.
— Сказать, парень, все можно, — согласно закивал Александр Егорович. — На то и язык, чтобы говорить. Без костей. Слыхал?
Червиченко не ответил — он думал о том, что сказать, действительно, все можно. Но ведь можно и промолчать, вот в чем загвоздка! Предположим, Канюков и Бурмакин охотились вместе, с натяжкой, но можно предположить. Но тогда зачем нужно было Канюкову обвинять Вальку, а Вальке брать вину на себя одного? Конечно, его мог подбить на это Канюков: тебе, мол, не привыкать, а мне выгоднее остаться чистым. Только для чего такое саморазоблачение? Ведь их никто не тянул за язык. Ради чего жертвовать мясом, которое очень не легко добыть, терять деньги и ружье? С какой целью? Ведь цель должна оправдывать средства!
Следователь достал папиросу и прикурил, выхватив из костра головню. Забыв о ней, держал в руке до тех пор, пока боль ожога не заставила пальцы разжаться. Ткнув их машинально в снег, пробурчал:
— Странно…
Но ведь факты остаются фактами, какими бы странными ни были. Что, если попытаться рассуждать иначе — с конца? Например, так: не являлась ли целью канюковской инсценировки в некотором роде организация общественного мнения? Подумаем…
Прежде всего, была ли у Канюкова особая нужда в этом? На первый взгляд нет, но… Скажем, опасение каких-то разоблачений, обвинение в попустительстве браконьерам? Такие слухи ходили. И вот Канюков решает создать себе репутацию неподкупного человека. Подговаривает Вальку Бурмакина, они убивают лося и… и что? Канюков специально ломает ногу? Да? Бред собачий!