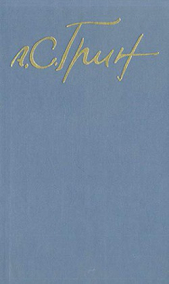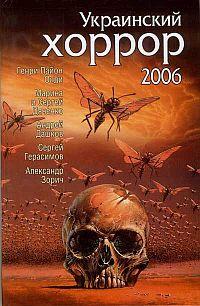Падающая башня

Падающая башня читать книгу онлайн
Входит в антологию «Американские повести».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лютте приложила рот, спелый персик, к его уху и, обдавая теплым дыханием, зашептала:
— Возьми меня с собой в Америку.
— Поехали! — сказал Чарльз, обхватил ее еще крепче и побежал к двери. Она упиралась.
— Да нет, серьезно, я правда хочу в Америку.
— И я хочу, — бесшабашно сказал Чарльз. — И не только я, а все хотят.
— Это неправда, — строго оборвала его Лютте и чуть не остановилась на полном ходу.
Тут их разбил Ханс. Чарльз вернулся на место с таким ощущением, словно его надули. Лютте как подменили. Она прильнула к Хансу, и они медленно заскользили по залу, она то и дело бережно, ласково целовала его в правую щеку мягкими нежными губами, глаза ее были полуприкрыты. Изуродованное лицо Ханса выражало раскормленную гордость, неколебимое самодовольство — точнее сказать, чванство. Чарльз вдруг почувствовал острый приступ ненависти к Хансу. Но он чуть не сразу прошел.
— Тьфу, — сказал он вслух, хотя ни к кому не обращался. — Ну и что из этого?
— Совершенно с вами согласен, — сказал Тадеуш. — Согласен, тьфу, ну и что из этого?
— А не выпить ли нам коньяку? — сказал Чарльз.
Притихший было Отто вскинулся, улыбнулся.
— Чудесный вечер! — сказал он, — Мы все тут друзья, верно я говорю?
— Совершенно верно, — сказал Тадеуш. — Мы все ваши друзья, Отто. — Движения его стали менее резкими, более плавными, глаза растерянно смотрели из-под складчатых век, с губ не сходила напряженная улыбочка… — Ох, и надерусь я сейчас, и совесть меня замучит, — сказал он не без удовольствия. И повел, хоть они и слушали его вполслуха, рассказ о своем детстве в Кракове: — В старом доме, где моя семья жила с двенадцатого века… На Пасху мы ели одну свинину, чтобы выказать евреям свое презрение; разговляясь после Великого поста, мы, естественно, бессовестно объедались… Отстояв праздничную службу, я утром накидывался на еду и ел, пока не раздувался, точно шар, и у меня не начинались колики. Тогда я укладывался в постель, плакал в три ручья, а когда меня спрашивали, в чем дело, говорил: мне стыдно, меня мучит совесть. К моим страданиям относились уважительно, меня утешали, но порой я, казалось, замечал, как… нет, не мать, скорее сестра проницательная была, поганка, и няня то сверкнут глазами, то скорчат гримаску. Однажды няня, напоив меня успокоительной микстурой, растерла мне с унизительной притворной жалостью живот и сказала: «Теперь тебя совесть больше не мучит?»
Я — в рев, сказал матери, что няня пихнула меня в живот. А потом изрыгнул всю пасхальную свинину, так что евреи на сей раз были отмщены. Няня сказала: такой маленький, а уже такой подлый, потом они с мамой ушли поговорить в соседнюю комнату, вышли оттуда смеясь, и я понял, что меня раскусили. С тех пор я никогда больше не заикался при них о муках совести. Но как-то раз — уже взрослым или почти взрослым — я, пьяный в стельку, явился домой в четыре утра и пополз вверх по лестнице — вот дураки люди, думалось мне, и зачем ходить, на четвереньках же гораздо удобнее. Красная ковровая дорожка давала ощущение надежности, раскованности, помнится, я считал себя благодетелем человечества — ни более ни менее: еще бы, я возрождал исконный способ передвижения, стоит мне доказать его достоинства и преимущества, и он произведет коренной переворот в обществе. Но тут первым препятствием на моем пути встала моя мать. Она молча высилась на верхней площадке лестницы с зажженной свечой в руке — поджидала меня. Я помахал ей передней лапой, она не удостоила меня ответом. А едва моя голова выросла над последней ступенькой, она заехала ногой мне в челюсть — да как! — я просто чудом уцелел.
Она никогда не упоминала об этом происшествии, впрочем, расскажи она мне о нем, я бы ни за что ей не поверил, если б на следующий день у меня не распух язык. Так меня воспитывали в этом древнем городе, но теперь я вспоминаю этот город — нечто среднее между кладбищем и утерянным раем — и гул колоколов над ним с нежностью.
Отто сказал:
— А не выпить ли нам еще пивка? — и с горечью рассказал им кое-что о своем детстве.
Однажды, когда он грыз орехи, мать ни с того ни с сего поколотила его. Обливаясь слезами, он спросил ее, в чем он провинился, а она сказала: не задавай вопросов. Что хорошо для Мартина Лютера, то хорошо и для тебя. Позже он прочел в детской книжке, что мать Мартина Лютера отколотила его до крови, когда он щелкал орехи, — она, оказывается, не переносила этого звука. До той поры я думал о Лютере как о великом, суровом, жестоком человеке, чья душа радовалась, когда лилась кровь, но после этой книжки я проникся к нему жалостью. И он когда-то был несчастным, забитым малышом вроде меня, и его колотили ни за что ни про что. И все же он стал великим человеком. — Лицо у Отто было приниженное, извиняющееся. — Дичь, сущее ребячество, конечно, но мне это очень помогло в жизни, — сказал он.
Клубы дыма, свет, голоса, музыка — все смешалось и, слившись воедино, поплыло вокруг. Крупная молодка, помогавшая близнецам, вышла из-за стойки в зал, принялась сдвигать столы и стулья к стене. Крепкие ягодицы так и ходили под обтягивающей юбкой, большие груди вздымались и опадали, когда она поднимала и опускала руки; широко расставив массивные ноги, она налегла на стол. Мужчины, сидевшие поблизости, смотрели на нее во все глаза, но не двигались с места и не пытались ей помочь. И тут в Отто снова произошла разительная перемена. Он прямо пожирал глазами молодку, только что не пускал слюни. В своем возбуждении он, казалось, ничего не видел вокруг, нос его дергался, глаза округлились, в них горела расчетливая свирепость кота. Молодка наклонилась вперед, оголив подколенные ямки, выпрямилась, и на ее спине и плечах заходили мускулы. Она перехватила взгляд Отто и медленно залилась краской. У нее вспыхнули шея, щеки, лоб, лицо ее окаменело, омрачилось, словно она пыталась справиться с приступом боли или ярости. Однако уголки ее мягкого бесформенного рта раздвинула улыбка, глаза ее были опущены — после того первого, беглого взгляда она больше их не поднимала. Вдруг она схватила стул, напоследок рывком отшвырнула его к стене и убежала — двигалась она нескладно, вразнобой. Отто обратил на Чарльза взгляд, полный пыла, не до конца растраченного на молодку.
— Есть за что подержаться, — сказал он. — Люблю крупных, ядреных баб.
Чарльз кивнул, чтобы не вступать в прения, и снова стал смотреть на Лютте — она все еще танцевала с Хансом, осыпая его поцелуями.
Деревянная кукушка, не больше колибри, выскочила из дверцы над циферблатом, предупреждающе закуковала. И тут же все повскакали с мест — сосед обнял соседа, раздались крики:
— С Новым годом, с новым счастьем, здоровья тебе, удачи, Господь спаси тебя и помилуй!
Бокалы, кружки плясали в воздухе, на полуоборотах окропляя пеной вздетые кверху лица. Сам собой образовался круг, переплетя руки, все запели кто во что горазд, однако голоса быстро слились в мощный хор — прекрасные голоса выводили игривые, неведомые Чарльзу мелодии. И он, звено этой цепи, открывал рот и пел не в лад и без слов. Неподдельная радость, жаркая, беспечная, подхватила его: да, он не дал маху, это именно то, что ему нужно, здесь и люди замечательные, и все, буквально все здесь ему нравится. Круг разорвался, соединился, завертелся и, разомкнувшись там и сям, распался.
Криво улыбаясь одной стороной лица, к нему подошел Ханс, и с ним — Лютте. Они с двух сторон обняли Чарльза за плечи и пожелали ему счастливого Нового года. Он раскачивался, обняв одной рукой Ханса, другой Лютте, — ревность его сразу улетучилась. Лютте поцеловала его в губы, и он невинно, как целуют ребенка, поцеловал ее в ответ. Тут они заметили, что Тадеуш склонился над Отто — тот улегся на столик, положив голову на руки.
— Он мертвецки пьян, он дезертировал, — сказал Тадеуш. — Теперь, куда бы мы ни пошли, нам придется волочить его за собой.
— Но мы ведь больше никуда не пойдем, надеюсь, нет? — взмолился Чарльз.
Отто и впрямь был мертвецки пьян. Они подхватили его под руки, судорожно цепляясь друг за друга, вывалились на тротуар, под снисходительным взглядом рослого полицейского залезли в такси, тут же перепутались ногами и, лишь чудом не вывалившись, разом высунулись из окон. Лютте, никого не выделяя, желала всем: «Спокойной ночи, счастливого Нового года», лицо ее сияло, но вид у нее при этом был вполне трезвый.