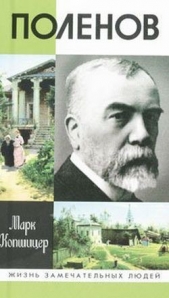«То было давно там в России»
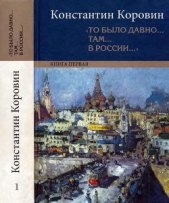
«То было давно там в России» читать книгу онлайн
«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.
Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.
В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Выйдя на Сущевскую площадь, где была каланча пожарной части, нас ввели в ворота и по лестнице во второй этаж дома. Пройдя душный коридор, ввели в большую комнату.
На потолке висела лампа, а сбоку сидели трое за столом и что-то писали. Когда нас ввели, то они бросили писать и смотрели на нас. Из двери соседней комнаты вышел в расстегнутом сюртуке, небольшого роста квартальный, с сердитым лицом, стриженный бобриком, и, став против нас, смотрел на нас молча. Потом сказал:
— Чего это? Дайте-ка сюда.
И, протянув руку, он взял у нас папки с рисунками, открыл их на столе и смотрел. Один из писарей, увидав рисунки, сел на стол и захохотал. Квартальный смотрел то на нас, то на рисунки, так строго смотрел, в недоумении. Писаря прямо ржали от хохота. Фонарщик глядел, открыв рот.
— Чего вы? — сказал квартальный. — Смешного здесь ровным счетом ничего нет. Который руки хотел на себя наложить? Слышь ты, который? — спросил квартальный.
Писаря тихонько фыркали и отвернулись к окну.
— Брось, Григорь, чего смешного? Который, спрашиваю, к фонарю ладился?
— Вот этот, — сказал, закашлявшись, фонарщик, показав на меня.
— Вы кто будете? — спросил нас квартальный.
Мы рассказали, что шли из Школы и вот пошутили, сказав фонарщику пустяки.
— Ну и шутки!.. — сказал квартальный, покачав головой. — А это что за картины такие, неприличные… Гольем все?
— Да это в школе рисуем, классная работа… это натурщики.
Квартальный сел и писал, так серьезно и долго. Потом спросил:
— Ваше удостоверение личности?
Я ответил, что живу здесь, недалеко, рядом почти, в доме Орлова. Он посмотрел на меня и спросил:
— Это вот эдакие картины вы в Училище рисуете?
Писаря расхохотались.
— Да что вы, черти, чему радуетесь? — крикнул квартальный. — А ежели это самое показать дочери али жене, сыну, ну, что тогда, каким колесом они пойдут?!
Квартальный опять неодобрительно посмотрел на нас и на рисунки.
— Потрудитесь подписать протокол!
Мы подошли и, не читая, подписали свои имена.
— Картины эти останутся здесь, а я пойду с вами до дому, тут недалеко дом Орлова, — проверить правильность вашего показания.
Он ушел в дверь соседней комнаты. Наступило молчание.
Квартальный вышел в пальто, мигнул городовому, пошел с нами, а также и городовой.
— Послушайте, господин надзиратель, — говорит дорогой Щербиновский, — поверьте, что это недоразумение, уверяю вас.
— Какие недоразумения? Что за шутки! Свидетели говорили: вынул из кармана веревку, на фонарь накидывает. Этот, говорит, фонарик хорош, подходящий, чтобы повеситься… Хороши шутки!
В это время в тихой осенней ночи раздался голос. Кто-то пел:
Когда квартальный вошел ко мне в комнату, то увидел на стене висящие этюды красками и рисунки гипсовых голов, нагих натурщиков и всю обстановку, сел за стол и долго смотрел.
— Послушайте, молодые люди, я тоже несу на себе службу. Вижу я вот на стене картины. Вижу, что верно — это дело учения. А сразу, что кажет, в голову лезет невесть что. И все же я ума не приложу, к чему это голые-то… Ум раскорячивается, понять нельзя… Боже мой, сколько их! Зачем это?
— Да ведь как же для чего, как же мерки снимать? — сказал Щербиновский. — Человек-то ведь голый, все люди-то голые… Вот на вас мундир — видно, что надзиратель. На губернаторе другой, а на генерал-губернаторе — третий. А ведь если так взять, то все голые люди-то…
— Это верно, — согласился квартальный. — Дак вот оно что! Так бы и сказали. Теперь я понял…
— Ну да, — подтвердил Щербиновский, — на всех мундиры делать будут потом.
— А когда на обмундировку поступите? — спросил квартальный.
— На будущий год, — ответил Щербиновский, — когда курс кончим.
— Ну вот, хорошо. Теперь все ясно. Значит, при должности будете. Хорошо. И вот старушка рада будет, — показал он на мою мать. — Вы, матушка, не волнуйтесь, я ведь не обижать их пришел…
— Скажите, господин надзиратель, — спросил я, — кто это поет тут? Слышно, голос хороший. Вот сегодня, когда сюда шли, слышали.
— Как же, э-э-э… знаю. Арестант поет в остроге. Поет хорошо, все его жалеют. Ну вот — попал.
— Да за что же? — спросили мы.
— Да вот… тоже молодой… за девчонку попал!.. Приют был такой дворянский, а там девицы в обучении, сироты дворянские. Ну, и одна ему на ум попала… Влюбимши, значит, был. Ну, значит, он и подкупил печника, да и пришел в приют за него печи топить, туды, в приют-то. Да что, спрятался там да ночью ее оттуда, из приюта-то, скрасть хотел. Значит, оба убежать хотели. А заперто кругом. Через забор пробовали, а по заборе-то гвозди. Он в ворота, а сторож, дворник, значит, ну, тут ему — «стой, куда?» Да хотел в свисток свистнуть. А тот ему свистнул, да прямо в висок. Ну, и наповал. Убил. Убег. Но поймали. На машине хотели уехать [523]… Судили, и вот… песни поет…
Мой Феб
Иногда вспоминаются незначительные события. И так это странно, что в жизни много было такого, от чего в скорби и тяжести горя холодела душа и меркла надежда жизни. Таких тяжких часов было так много, но не они волнуют в воспоминаниях. А совсем иные, трогательные случаи, незначительные, проходящие около жизни.
Однажды как-то, по делу устройства кустарной выставки в Петербурге в залах Таврического дворца [524], приехал я в Москву к гофмейстеру Николаю Александровичу Жедринскому. Не застал его дома, и мне предложили: «Подождите, он скоро приедет».
В гостиной, где я стал ожидать, был и другой посетитель — симпатичный, молодой еще и скромный на вид человек. Мы посмотрели друг на друга, закурили папиросы. Он посмотрел на часы, сказал:
— Я вот час уже жду. Приедет ли Николай Александрович?
— Я подожду, — сказал я, — мне необходимо его видеть. По серьезному делу…
— Да, — сказал сосед по ожиданию, — у меня не дело… а так — пустяки… По охоте… Николай Александрович ведь охотник.
— Да, — говорю я, — он охотник. И я тоже охотник…
— Вот как, вы тоже охотник? А я ветеринар, и дело, видите ли, неприятное. Я служу в учреждении, городском. Отправляю на тот свет друзей человека, брошенных собак, беглых, у которых нет хозяина. Тяжелая обязанность… Впрысну ампулу, ну, и прощай. Жаль. Хорошие бывают собаки… Вот и теперь — месяц держу пса, никто не является — нет хозяина. Ну, и обязан отравить. А собака — пойнтер, молодой, красавец… какие глаза! Умные… Не могу убить… Чудная собака… Вот и пришел спросить, не возьмет ли Николай Александрович. Он ведь охотник. Редкая собака.
— Послушайте, — сказал я, — отдайте ее мне, пожалуйста. Я охотник. Я заплачу. Не убивайте, отдайте мне эту собаку…
— Пожалуйста, — сказал радостно ветеринар. — Ваш адрес, нынче же пришлю. Увидите, собака дивная. Не могу убить. Никаких плат не надо. Дайте двугривенный на чай дворнику, пришлю вам сегодня же.
Он записал мой адрес, сказав:
— Прощайте, должен бежать. Я рад, вот случай. Поверьте, собака отличная. Невозможно убить ее: жаль.
И ветеринар ушел.
Когда пришел Жездринский, сказал мне:
— Вздор. Разве бросят хорошую собаку. Что ты? Ерунда наверное.
От него я поехал скорее домой. Думаю: без меня приведут собаку, не застанут, уведут назад, отравят, адреса я не взял.