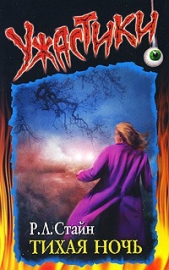Милые мальчики

Милые мальчики читать книгу онлайн
Российским читателям еще предстоит проникнуть в мир Реве — алкоголика, гомосексуалиста, фанатичного католика, которого привлекали к суду за сравнение Христа с возлюбленным ослом, параноика и истерика, садомазохиста и эксгибициониста, готового рассказать о своих самых возвышенных и самых низких желаниях. Каждую секунду своей жизни Реве превращает в текст, запечатлевает мельчайшие повороты своего настроения, перемешивает реальность и фантазии, не щадя ни себя, ни своих друзей.Герард Реве родился в 1923 году, его первый роман «Вечера», вышедший, когда автору было 23 года, признан вершиной послевоенной голландской литературы. Дилогия о Милых Мальчиках была написана 30 лет спустя, когда Реве сменил манеру письма, обратившись к солипсическому монологу, исповеди, которую можно только слушать, но нельзя перебить.В оформлении обложки использован кадр из фильма Поля де Люссашта «Милые мальчики».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Природа — это такая красота, Мышонок. — Я все-таки заговорил. — Взять, к примеру, лес. Никто уже не заходит в лес — так, рассаживаются на опушке со складными стульями и столиками.
Мышонок задремывал. Полагаю, что я действительно любил его, но это его беспечное, своевольное, даже кокетливое покорство нуждам своего утомленного тела пробудили во мне раздражение, а оно, в свою очередь — новую волну желания, пусть еще пока неоформившегося — и мне пришлось положить руку на его выдохшуюся от игры и пения флейту.
— Ты всегда будешь моим белокурым, неверным, распутным укротителем мальчиков? Я серьезно.
— Слушай, отстань.
— Да, конечно.
Никогда, никогда, никогда я не угомонюсь. Что же понукало, что гнало меня по земле, нигде не суля успокоения? Неужто я богохульствовал — по легкомыслию либо из-за плебейской своей недооценки величия Господнего? Оставив мысль об умирающей бабочке, я вообразил себе некоего крошечного насекомоподобного монстра, который, свернувшись в листке кустарника, плавает в пене собственной слюны: мелюзга, должно быть, наболтала всяких поистине ужасных вещей.
Я вспомнил, как еще мальчишкой читал одну книгу — не слишком толстую, на тонкой, желтоватой бумаге в дешевом, с серым мраморным рисунком переплете; обрезанная вровень со страницами обложка была из голого соломенного картона, а текст на каждой странице был разбит на две колонки; называлась она не то «Корабль-призрак», не то «Летучий Голландец», а может, и то, и другое: я имею в виду, одно из названий было подзаголовком. Что же это была за книга из великого множества других на эту славную тему? Теперь уж мне и не вспомнить. И как звали капитана — не Ван дер Декенли[29]? Тот самый богохульник, что ходил к мысу Доброй Надежды и за свое кощунство был обречен на веки вечные — или, по меньшей мере, до Судного дня — скитаться вокруг этого Мыса… Если только… если только… в чем же там было дело?[30]
— Неужто он не мог как-нибудь вывернуться? — вдруг громко сказал я.
Мышонок, вздрогнув, очнулся от дремы:
— Откуда ты не можешь вывернуться? Что?
— Я подумал о прошлом. Я, Мышонок, тогда книжку одну читал. И мечтал о всяких морях и гаванях. Я тогда маленький был.
Я вновь приподнялся на одном локте и взглянул на затягивающие небо облака, на верхушку росшей на заднем дворе березы — и каждый листочек на ней трепетал, трепетал, и было их без счета.
— Мне дальше-то можно рассказывать? А ты помолчи. Тебе нужен отдых. Ты болен. Очень и очень болен.
— Что это, черт возьми, за фигня еще? — сон почти слетел с Мышонка.
— Да нет, ты здоров как бык, не о том речь. Но из чисто литературных соображений было бы лучше, если бы ты таял на глазах, чтобы здоровье твое было предметом великого беспокойства. Вот когда-нибудь извлекут из-под песка мои письма — когда-нибудь, как ты знаешь, весь мир превратится в пустыню — и посадят какого-нибудь типа, которому всяческие бестолковые фонды за эту работу платят бешеные деньги — склеивать их по кусочку, то обнаружится, что в них без конца повторяется одно и то же: «Мы вновь держим путь на юг, за перелетными птицами, туда, где светит солнце, туда, где тепло — так надо для Мышонкиной грудки». Мои письма всегда исполнены неусыпной тревоги о тебе. А еще нам нужно заботиться о том, чтобы современники постоянно получали письма с сообщениями вроде: «Мышонку — о радость! о счастье! — немного лучше. Гнусный кашель мучит его гораздо меньше». И кучу фотографий нашлепаем, на которых сидишь ты, такой хрупкий, трогательный, твое прелестное тельце ниже пояса укутано клетчатым пледом — ты полулежишь в плетеном кресле, со смутной улыбкой на губах: утомленный, на пороге смерти и все-таки жаждущий чудес, перспективы, наслаждений и захватывающего вихря жизни — ведь ты еще так молод… Вспомни, к примеру, Вирджинию — По женился на ней, когда ей едва исполнилось тринадцать[31], — она качалась на качелях в тенистом саду, и ее, резвящуюся беспечно, уже подкарауливала смерть… Да, тебе пристало бы чахнуть, но так, чтобы при этом оставаться здоровым, вот что я имею в виду.
— О господи, уймешься ты наконец!
— Нет-нет, ты здоров, но вообще-то не так чтобы. Я имею в виду, ты был бы здоров, но с виду такой болезненный, хотя не настолько, чтобы пропитаться запахом хвори и пилюль — вот этого не надо. И был бы ты нежный, бледный, с дивной кожей, как у девы, которую мать усадила пахтать масло, и она носа на улицу не кажет. В тебе есть что-то чарующее, что-то от юной женщины, еще девушки… провалиться мне, если вру.
— Герард, ну как с тобой жить!
— Ну давай тогда вместе умрем.
— Да мне уж все равно.
— Ладно: заткнусь я со своей небывальщиной. Я тебе лучше кое-что настоящее расскажу, из книжки. Кабы этого не было, об этом и не написали бы. Я имею в виду, просто так всякие враки в книжках не пишут.
Мышонок застонал.
— Не трусь, — продолжил я. — Прежде всего, учти: я по тебе с ума схожу — ну, это уж и так ясно. Я книгу про тебя написать хочу; ты там выйдешь этаким жестоким красавцем в роскошных лиловых юношеских одеждах в обтяжку, здоровый такой крепыш. Понимаешь? Так написано в книге — или будет написано в книге, которую мне, по стечению обстоятельств, еще предстоит написать — это неважно — и это немедленно становится правдой. Разве ты не раскрасавчик? Разве не начинают истекать слюной и судорожно вздыхать мальчики и мужчины, завидев тебя на улице или в какой-нибудь лавчонке? Ну вот я, например. Увижу тебя издали — и словно это не ты, а кто-то совершенно другой, такие меня желание, грусть и влюбленность охватывают. Ну, это как в сортире — свой собственный запах воспринимаешь как чужой, аж страшно делается. Я имею в виду, это — обновление. Ты меня омолаживаешь: с тобой я обретаю мою утраченную юность, как бы это сказать…
— Господи, когда же это кончится.
— Сгораю в собственном огне, так-то, Мышонок. Лучше уж пламенем дохнуть, чем рот обжечь.
Я ощущал давление газов, медленно, толчками протискивающихся во мне, словно кролик во чреве удава, и мне пришлось напрячься посильнее, пока все не разрешилось совершенно беззастенчивым, прямо-таки скотским треском. Мышонок беспомощно взвыл и попытался вскочить с постели, но я исхитрился удержать его в умиротворяющих объятьях и, в конце концов, затянул за лодыжку обратно в кровать. Примирившись с участью, он рухнул ничком в постель и замер, уткнувшись лицом в подушку.
— Можно, я тебе вот это местечко буду гладить, зверь мой прекрасный? Только вот это, и все? Долго-долго? Тебе нравится или совсем уж с души воротит? Мне перестать или продолжать?
— Давай.
— А ты в отместку не пальнешь мне в нос из своей бойскаутской задницы? Учти, это некрасиво и не пристало истинному христианину.
— Хотел бы я, черт возьми, хоть разок попробовать. Ты-то всегда готов.
— Ни разу в жизни не болел. Поэтому и есть могу что угодно. Редкая вещь в наши дни. Взять, к примеру, морские путешествия — столько там было болезней и смертей. Если после похода на Восток возвращалась половина команды — считалось уже много. Дивная, дивная книга — если, конечно, сумеешь переступить через все эти горести.
— Что еще за книга?
— Ну, о которой я тебе говорил. Давай я буду ласкать тебя, гладить и книжку пересказывать? Или ласкать и гладить не надо, а только рассказывать?
— Только ласкать и гладить.
— Нет, так дело не пойдет. Ты хочешь всего и сразу. Балованный ты, в роскоши вырос. Оно и видно, что пороху не нюхал. Ты что же думаешь, на войне тебя будут только миловать да голубить, и никаких при этом баек? Да о чем это я. Ты бы там вообще никаких нежностей и ласк ни от кого не дождался. Там о таком и не слыхивали. Вот поговорить, рассказать что-нибудь, это уж милое дело — кстати, как и до войны. Каждый вечер дом — что пчелиный улей. Ложусь, бывало, спать наверху и все это через пол слышу. «Рабочие должны взять власть», всякое такое. Слава тебе, Господи, до этого не дошло, но ведь никуда не денешься, если постоянно приходится слушать подобную трескотню. Все эти разговоры да рассуждения, и к тому же еще на таком корявом нидерландском! Потому-то я так изысканно выражаюсь и пишу. Погладить тебя еще или хватит?