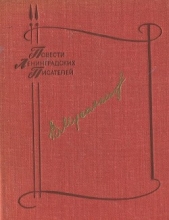Прощай, Акрополь!

Прощай, Акрополь! читать книгу онлайн
В книгу вошли три повести, объединенные общей темой и проблематикой. Тема эта разрабатывается писателем как бы в развитии: лирические воспоминания главного героя о детстве и юности, глубокие философские размышления престарелого художника о миссии творца, о роли а месте искусства в жизни современного человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На туристской базе они жили вдвоем со сторожем. Вечером они разжигали камин и, сидя перед ним, говорили о погоде, о замерзшей колонке во дворе, о лыжнице в красной куртке, спустившейся вчера утром по канатной дороге. «Шаль, что к нам не зашла, я б ее ублажил 1 Я месяца три бабы не видел», — смеялся сторож, и редкие его зубы поблескивали в отсветах пламени. Говорили, что испортился транзистор, и они теперь совсем оторваны от мира, о том, что волки в прошлое воскресенье растерзали под соснами лошадь дровосеков.
По ночам рассказы сторожа оживали в снах Мартина, и если бы утром он мог увидеть следы своих сновидений — возле деревянного шкафа или печки, где с его заиндевелых ботинок натекла лужица, — то они, наверно, показались бы ему волчьими следами на снежной целине.
Как–то после обеда Мартин решил спуститься по канатной дороге в курортный поселок. Ему хотелось потолкаться среди людей, купить газеты, постричься в парикмахерской у автобусной станции и вернуться вечером в уединенный дом в лесу.
Стальной трос, похожий на. тот, по которому ехал на велосипеде клоун, опоясывал колесо подъемника и, покачивая пустые сиденья, спускался по склону, окутанному туманом.
Мартин устроился па одном из сидений, глянул на часы — было без десяти пять, значит, хватит времени пошататься внизу и успеть к ужину на базу. Дул ветер. Мартин, подняв воротник пальто, медленно поплыл вверх — внизу остались вершины сосен, заснеженные скалы, крутой спуск в долину, которая вскоре изогнулась подковой и становилась все уже и глубже. Сосны сделались совсем крохотными. Ветер усилился.
. Вдруг пустые сиденья перед ним замедлили ход. Скрип колеса стал глуше, глуше и замер в мглистом небе. Мартин повис в воздухе. Сначала он не поверил своим глазам и даже развеселился при мысли об оптическом обмане. Но потом, когда трос начал «ндеветь и сливаться с серостью надвигавшегося вечера, Мартину стало не по себе.
Наверное, произошла авария или отключили ток, поду, мал он.
(Клоун, добравшись до конца проволоки, слезал с велосипеда, чтобы передохнуть перед новым испытанием. Зрители восторженно аплодировали, клоун кланялся. От улыбки растягивались белые пятна вокруг глаз, под которыми проступали черные бороздки от слез. Мальчик прижался к отцу — он боялся, что клоун упадет, — но Мартин не ощущал прикосновения детского плеча.)
Снизу дуло. Ото всех стволов, из каждого дупла тянуло холодом. Снег колол лицо Мартина, повисшего между небом и землей. Трос подъемника скрежетал, точно по нему водили огромной пилой.
Мартин не сомневался, что повреждение быстро устранят, и это качание над пропастью представлялось ему сначала даже забавным. Будет о чем рассказать друзьям… Но проходили минуты, а он продолжал висеть в воздухе, и царившее вокруг безмолвие становилось все более гнетущим. Чтобы не замерзнуть, нужно было двигаться, шевелить руками, ногами… Сиденье поскрипывало под ним, трос слегка подрагивал, но не сдвигался ни на сантиметр. Что делать? Кричать? Может, кто–нибудь услышит его и поспешит на помощь? Он закричал. Крик его ударился о трос, взметнулся над соснами и упал в бездну. Эхо, отскочив от хребта, облепило крик, покатилось вниз, увлекая за собой ком, в середине которого был страх Мартина. Он снова закричал. На этот раз в голосе его послышался испуг. Крик ударился о противоположный склон, отскочил, словно отброшенный гигантской пружиной, и Мартин ясно увидел его падение в бездну: вслед ему заклубился снег, словно обрушилась лавина.
Холод пронизывал Мартина до костей, минуты текли, и он понял, что обречен погибнуть в этой безлюдной горной пустыне. Он кричал, пока не охрип. Долина наполнилась эхом, плотным, как туман, осязаемым — Мартин касался его подошвами ботинок, — и сквозь эхо проступали острые верхушки сосен. Он решил спрыгнуть — пусть даже сломает ноги, лишь бы слезть с этого проклятого сиденья! Он будет ползти, пока не доползет до тропинки, где его могут найти. Потом ему пришло в голову, что лучше ухватиться за трос и, подтягиваясь на руках, добраться до столба, который был метрах в двадцати от него. Он спустится по столбу, как спускался когда–то по черешне в отцовском винограднике, и ступит на твердую землю. А потом будет искать дорогу…
(Клоун, отдохнув, укрепил на проволоке велосипед и, ступая скользящим шагом, как по льду, снова готовился прикоснуться к педалям и пуститься в обратный путь — не по проволоке, а по затаенному дыханию зрителей.)
Мартин привстал, но не смог дотянуться до троса. Ладонь его прилипла к обледенелому железу сиденья, и, с трудом отодрав ее, он увидел, что на металле остался кусок кожи.
Его начало клонить в сон…
Тяжелые веки не приподнять. Горят засиженные мухами лампочки, как в домике на туристской базе. Сторож, бросив на пол перед камином вязанку дров, наклоняется развести огонь. Его широкий зад, обтянутый штанами, похож на воловью тушу. Всю комнату заливает красный свет. Но это не отблеск огня в камине. Это пришла лыжница, о которой они говорили вчера вечером. Наверное, заночует здесь. Она снимает красную куртку, поднимая вверх руки, и под складками шелка обозначаются груди. Сторож, три месяца не видевший женщины, напряженно застыл, но лыжница не замечает его. Она поворачивается к Мартину. Плечо у нее гладкое — Мартин чувствует его под своими пальцами, — плавные толчки ее тела отдаются в его крови, и он ощущает то блаженство, которое испытывал только в первые любовные ночи… «Это белая смерть, — мелькает в его Сознании. — Я забыл пластинку на батарее, она размякнет…» — вспомнилось ему, и больше он ни о чем не думал, вися под пронизывающим ветром…
Потом сквозь сон он различил луч карманного фонарика, шарившего по его лицу. Увидел людей, которые бежали, что–то возбужденно крича. Увидел дома — без стен и крыш, одни ярко сияющие окна. На двигающихся сиденьях подъемника заметил фигуры, торчащие у них за плечами лыжи. Какие–то туристы, весело болтая, поднимались яверх и, как ангелы со сложенными крыльями, исчезали я небе…
«Отберите у него документы! — кричал тот, что держал яарманный фонарик. — Не хватало в тюрьму сесть из–за того дурака! Оштрафовать его надо! На сто левов! Заплатит как миленький! Не знаешь, что дорога работает до пяти, ну и виси хоть до утра!»
Потом, когда Мартину растерли снегом лицо и руки и повели к ближайшему дому, тот, что шарил лучом фонарика по его лицу, словно все еще не верил, что снятый с сиденья человек жив, сказал: «Ну, брат, повезло тебе! Автобус с итальянскими туристами опоздал, и я пустил дорогу, чтобы поднять их в гостиницу наверху. А не то…»
Мартин пробовал шевелить закоченевшими ногами. Ощущал аромат чая, слышал стук вилок, казавшийся ему праздничной музыкой, и ему все еще грезились золотые крылья лыжников, возносившихся в небо…
(Зал аплодировал. Клоун, закончив номер, раскланивался на другом конце арены, и Мартин видел, как ослепительно сверкают спицы его велосипеда в глазах сына.)
Бледнели в его памяти многие встречи и разговоры, но больше двух десятилетий Мартин носил в своей душе воспоминание о наборщике, с которым после армии работал я многотиражке… Теперь, думая о своем сыне, Мартин снова мысленно переносился в тот южный городок.
Наборщика звали Йовчо Стоименов.
Приходя по утрам в редакцию, где помещалась и типография, Мартин неизменно заставал там Йовчо: тот завтракал, постелив газету, — отрезал сало тонкими ломтиками и, подержав их на печке, пока не зарумянятся и не изогнутся, зажимал между кусками хлеба. Угощал Мартина, потом вставал за наборную кассу и принимался набирать текст. Он наклонялся за свинцовыми буквами от ячейки к ячейке в усвоенном от отца — тоже наборщика —- ритме, и это взбадривало его, даже веселило. В движениях его рук было что–то от изящества мастериц, ткущих ковры, или арфисток, перебирающих струны арфы, под пальцами наборщика не возникало сочетания цветов, не рождалась музыка. Свинец, с которым была связала вся его жизнь, рождал только мысли. И порой они были более серыми, чем металл, оседавший тяжелой пылью в его легких.