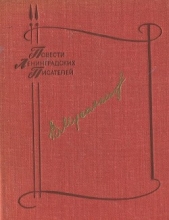Прощай, Акрополь!

Прощай, Акрополь! читать книгу онлайн
В книгу вошли три повести, объединенные общей темой и проблематикой. Тема эта разрабатывается писателем как бы в развитии: лирические воспоминания главного героя о детстве и юности, глубокие философские размышления престарелого художника о миссии творца, о роли а месте искусства в жизни современного человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ему стало не по себе. Он отвернулся, пряча волнение, поставил мольберт, положил на колени палитру (ноздри дрогнули от запаха скипидара) и тронул краски кистью.
Седефина сидела молча и не сводила с художника глаз. Она видела оборотную сторону натянутого на сосновый подрамник холста и угадывала движение кисти по тому, как холст пульсировал. Художник щурился, точно силился что–то вспомнить, резче обозначились складки на щеках и у рта — вероятно, давало знать о себе больное сердце, — но кисть тянулась к палитре. Там было много красок, но Седефина видела только две, положенные рядом в одном углу, — пурпурную и небесно–синюю.
Эти краски соприкасались, как соприкасается с тихой синевой Бургасского залива морской берег, вдоль которого тянутся красные, словно полыхающие, осенние виноградники. Там — уж и не вспомнить, сколько лет назад, — останавливался их цирк. Пахло водорослями. Канаты, которые натягивали шатер, за ночь ослабевали от влаги. Надевая утром платье, Седефина ощущала на плечах и спине морскую прохладу, а пуговки на груди блестели, как рыбья чешуя. Львы ревели ночи напролет — сырость пронизывала их до костей, пума билась своим гуттаперчевым телом о прутья клетки, надеясь их выломать…
Красные виноградники и синее море… У этого залива испытала Седефина самое большое счастье и самое тяжкое разочарование.
Однажды после представления к ней пришел человек, чьей обязанностью было устанавливать на арене клетку со львами. Она знала его давно и боялась, потому что был он большой, грубый, много пил и, когда у него от ракии мутился разум, колотил стаканы. Но в тот вечер он показался ей иным. Он был в чистой рубашке со сморщенным от стирки воротничком, улыбка обнажала крупные в коричневых прожилках зубы.
— У меня день рождения, — сказал он Седефине, — а с кем пропустить стаканчик? Со львами? Невелика радость. С антрепренером? Не в моем характере подмазываться к начальству…
Художник размешивал на палитре краски… Кармин и ультрамарин. Осенние виноградники над светлой полоской берега и набегающим на песок морем…
От ракии закружилась голова. Седефина еле дышала в объятиях этого великана. Ее платьице (она не помнила, когда сняла его) висело на стуле — такое маленькое, что недоставало до полу… Седефину пугали его руки, распластанное тело, прерывистое дыхание. Но влекла нежность к нему, которой она была не в силах противиться…
Боль прошла, и — еще миг назад готовая закричать — она почувствовала новый прилив нежности. Повернулась к нему — где он? Человек с коричневыми, прокуренными зубами одевался.
Брошенное им платьице Седефины чуть задержалось на спинке кровати и опустилось на подушку.
— Одевайся, ночь уже…
Седефина плакала.
— Одевайся, тебе говорят! — услыхала она его голос. — И смотри, будешь уходить, чтобы дверь не скрипнула…
«Зачем ты привел меня? Посмеяться надо мною? Разве праздник — такой?» — хотелось ей крикнуть, но она чувствовала, что этот человек ей дорог, и слова потонули в слезах.
— Ты чего это, голубка моя? Чем спасибо сказать — носом хлюпаешь? — проговорил тот, застегивая рубашку, — Да кто, ежели не под мухой, на тебя бы позарился? Я раз переспал с одной горбуньей. Не осталась в долгу — часы мне подарила на память…
Она отворила дверь. Шум моря так и обрушился на нее, чуть не сбил с ног. Медленно спустилась она по ступенькам, опираясь на перила, чувствуя, как царапает ладони ржавчина.
А великан защелкнул замок. Вспыхнул в окне огонек спички, осветил висок человека, которого Седефина всю жизнь будет любить, и опять все погрузилось в кромешную тьму…
Близился праздник. У ограды дома престарелых какой–то человек точил нож. Он водил сверкающим лезвием по бруску, пробовал острие ногтем. Рядом пасся на привязи ягненок с черной метиной — она сбегала со лба на висок, обрамляла глаз и спускалась к острой мордочке, уткнувшейся в румяк. Ягненок безмятежно щипал траву, помахивал хвостом, облепленным колючками репейника, не подозревая, что каждое прикосновение стали к бруску приближает последнюю минуту его жизни.
Художник наблюдал за размеренными движениями человека с ножом, рассматривал его широкое добродушное лицо — черные, словно нарисованные углем брови срослись у переносицы, под глазами мешки — и размышлял о человеческой жестокости.
Тот же самый человек, что точил сейчас нож, однажды зимним вечером вышел с фонарем во двор и, раскачивая по сугробам свою тень, которая то удлинялась, то укорачивалась от колеблющейся полоски света, заглянул в хлев, где спали овцы, поджав под себя ноги. В темноте фосфорно поблескивали зеленые огромные зрачки. Одна из овец забилась в угол, под куриный насест, и громко блеяла. Он подошел ближе и в свете фонаря увидел у нее в ногах беспомощное существо с пониклыми ушами. На мокрой спине обрисовались позвонки, словно под кожей были протянута веревочка с узелками, длинные ножки подгибались, и ягненок не мог подняться.
Овца блеет. Свет фонаря скользнул по мокрой овечьей шерсти, глаза, блеснув, исчезли в темноте, и человек, чувствуя на шее покалывание снежных иголочек, которые забились за воротник, идет к дому. Ягненок тычется ему в лицо влажной мордочкой, хрустит под ногами снег.
— Барашек! У нас родился барашек! — кричит он и смеется.
Кружат снежинки, выхваченные из темноты тусклым огоньком фонаря. Ребятишки, откинув одеяла, босые, взлохмаченные, высыпали на порог. Мороз заползает под рубахи, но отец не бранит их, не велит поскорей убираться в тепло. Он дает им потрогать вздрагивающие бока этого вестника весны, послушать тоненькое блеяние, от которого чуть звенят окна. В ответ сквозь снежную пелену долетает глухой, протяжный зов овцы. Потом, когда ягненка уложат на охапку соломы и прикроют сверху ивовой корзиной, дети уснут глубоким, блаженным сном.
Все спят. Не спит только мать. На душе у нее необычно весело — точно в доме долгожданный гость. Мужское сердце тоже растрогано. Несколько раз за ночь отец встает, зажигает спичку и наклоняется над корзиной. Барашек спит. Его уши касаются соломы — на каждом снизу черное пятнышко, похожее на сережки; когда по глазам пробегает трепетный огонек спички, он шевелится и тихонько блеет сквозь сон…
— Зачем ты так безрассудно посягаешь на свою радость, на те часы, когда ты был счастлив? — хотел крикнуть художник человеку с ножом, но тот, сжимая ягненка коленями, ответил бы так:
— Я радовался тогда. Та радость уже миновала. Будни берут свое. Ребятишек за пустой стол не посадишь, им хлеб подавай.
— Так ты ради хлеба берешься за нож?
— Хлеб — он посильнее нас.
— А вспомни тот зимний вечер, когда ты вошел в хлев и обнаружил в углу ягненка?
— Я помню. У сынишки тогда болело горло, а днем я ходил в соседнее село платить налог. Ягненок всю ночь блеял, спать не давал. Комната пропахла мочой… Но, бывает, размякнет душа… Я мог взять этого ягненка за ноги да кинуть к овцам, в хлев. Но ребятишки ему радовались. И я оставил его в доме…
— А не будут они тосковать по нему?
— Малыши, может, и обронят слезу. Но когда вырастут, как мы…
— Что тогда?
— Уразумеют, что есть на свете кое–что поважней, чем слезы жалости. И это убережет их от многих горестей…
— А утерянная радость?
— Она была твоей тогда, когда ты ощутил ее. Для чего возвращаться к ней опять? Жди новой радости, верь, что она непременно придет… Воспоминания о былых радостях не дают ничего, кроме боли…
— Но без такой боли человек тоже теряет многое…
— Я ничего не потерял. Будущая зима опять подарит мне ягненка, и он тоже будет при свете фонаря тянуться к материнскому вымени. Но в придачу к этой радости я получу шкурку на воротник к тулупу, да еще положу в карман деньжонки.
Так мысленно разговаривал художник с человеком, который уже бросил окровавленный нож на траву и теперь надувал ягненка — чтобы легче было свежевать. Тонкие ножки животного растопырились, хвост стал твердым и неподвижным. Человеческое дыхание проникало в распластанную тушу, там что–то шуршало, будто разлеплялись листы бумаги, смазанные рыбьим клеем. Туша раздувалась, росла, человек с трудом переводил дух, его грудная клетка сжималась, щеки вваливались, резче выступали скулы. Резиновые сандалии болтались на худых ступнях, спадали, будто они с чужой ноги… Куртка обвисла, пустые рукава были похожи на велосипедные шины, из которых выпустили воздух.