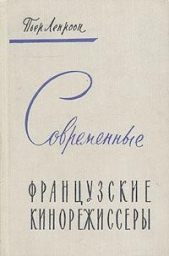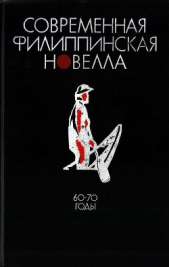Три французские повести

Три французские повести читать книгу онлайн
В сборник входят наиболее интересные повести Р. Гренье, П. Мустье и Р. Фалле, вышедшие в последние годы во Франции. Различные по манере и тематике, эти произведения отражают жизнь современного французского общества, многие проблемы, его волнующие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Случайность ли, — продолжал он потеплевшим голосом, — что один из вас, набрасывая портрет моего подзащитного, упомянул о Христе?
Нет! Тут скрывается глубокий символ. Серж Нольта — раб своих извращенных наклонностей, — стал пленником зла и распят злом, как скверный разбойник. Можно ли карать его за то, что он подвержен влияниям, что его втянуло в свою орбиту наше общество, где не существует никаких барьеров, что он развращен зрелищем насилия, громко заявляющего о себе с экранов кино? Мэтр Гуне-Левро высказал свое доверие присяжным, которые сумеют вынести справедливый приговор, далекий от упрощенного понимания, их уму, не отвергающему ни достижений науки, ни метода психоанализа, их милосердию, имеющему целью социальный прогресс. Он опустился на место с побагровевшим лицом, полы его мантии развевались, а вокруг, приветствуя его выступление, растекался взбудораженный шепот.
Председатель суда потребовал тишины и предоставил слово мэтру Ансуи. Но я больше не слушал. В моем мозгу беспорядочно вспыхивали ответы и возражения, о которые лихорадочно бились слова адвоката, и этот шум угнетал меня. Мне казалось, что фразы, которые защитник бросает в зал, обрушиваются, точно лопаты песка, на лицо Катрин, погребая его все глубже. Мою жену закапывали с методичной яростью, и только я один ощущал все варварство и дикость этого. От защитительной речи мэтра Ансуи в памяти у меня остались лишь обрывки фраз: в отличие от Сержа Нольта его подзащитный Шарль Порель вел себя как существо примитивное; его не назовешь свихнувшимся или порочным, он натура цельная, в здравом уме, какими бывают грубые существа. Способен работать по десять часов подряд и отважен до глупости. Наше современное общество не умеет использовать эти ценные качества, и они, естественно, оборачиваются против самого же общества.
Мэтр Удино был более убедителен. Он утверждал, что Поль Дедсоль играл на трубе 25 апреля потому, что и не мог действовать иначе. В трубе вся его жизнь. Игра его «освобождает». Он дует в трубу, как негры из Нью-Орлеана, чтобы забыть о своем несчастном детстве, о пьянице отце, который его колотил.
Мэтр Калем, защищавший Жоржа Логана, осуждал его отца.
— Вы знаете этого безвольного человека, дамы и господа. Вы видели его сальное толстое лицо.
Когда маленькая брюнетка-адвокат взяла слово, я невольно вздрогнул. Аргументы, которые она выдвигала, желая доказать невиновность Патрика Вааса, оставляли меня равнодушным. Я вслушивался лишь в модуляции ее пронзительного голоса, и звучание его напоминало мне о ее деде, который оперировал Катрин. В отличие от нее мэтру Павье понадобилась всего минута, чтобы возбудить мое внимание. Если Жан-Мари Ле Невель сбился с пути, утверждал он, то виною тому его родители, крепко державшиеся устаревшей системы воспитания. «Мы люди строгих принципов», — признавала мать. А Жан-Мари желал жить согласно нормам своего времени. Трагедия этого юноши, мечтавшего стать боксером, — это трагедия некоммуникабельности, порожденная конфликтом поколений. Не в силах дольше слушать это, я вскочил с места и выкрикнул:
— Нет! Все это чепуха!
Ко мне поспешил судебный исполнитель, посоветовал не шуметь и попытался усадить меня на место; но я сопротивлялся и упрямо твердил: «Нет! Нет!», а озадаченный председатель суда напомнил мне, что я не имею права прерывать судебные прения. Тогда мэтр Павье, погладив свою круглую бородку, заявил, что не добавит больше ни слова, предоставив дамам и господам присяжным самим оценить тот ловкий ход, жертвой которого он стал. Председатель суда поблагодарил его и согласился выслушать меня при условии, что я буду краток.
— Это не предусмотрено судебной процедурой, — уточнил он, — но суд согласен сделать в данном случае исключение.
Увы, торопясь, я давился словами, путался, сбивался. Председатель суда попросил меня приблизиться к барьеру.
— И главное, не забывайте о микрофоне! — сказал он.
Этот совет добил меня. Все взгляды были устремлены ко мне, они словно насекомые ползали по моим пылающим щекам. Я не желал ни маскировать, ни приукрашивать своих мыслей: это подлость говорить о некоммуникабельности, стыд и срам сравнивать Сержа Нольта с Христом. Не так важно даже покарать преступление, как вызвать отвращение к нему, негодование. А тут никто не негодует, никого не душит омерзение. Все растекается, растворяется в пресловутом «понимании». Вот что хотелось мне сказать. Но как связать воедино все эти слова, как отобрать нужные, как до предела сжать их, ведь сама их искренность не терпит никакой узды! Поэтому я только и смог пробормотать:
— Нет! Вы не понимаете. Вы ничего не поняли.
— Ну давайте же, объясните! — раздраженно-снисходительным тоном проговорил председатель суда. — Мы ведь уже довольно многое поняли.
— Нет! — все твердил я. — Нет! — И тут я пустился в какие-то безумные сравнения, говорил о правосудии и о механизме суда: Катрин была отброшена юридической машиной и общественным мнением. Всех интересовал лишь механизм, его система передач, его театральные эффекты. Машина судопроизводства, хорошо смазанная, работала на полную мощность, как ротационные печатные станки, которые изрыгнут этой ночью обкорнанные истины. Неловким молчанием встретил зал эту вздорную старческую болтовню. Мне хотелось добавить несколько простых спокойных слов, но у меня перехватило дыхание. Я тряхнул головой и засеменил к своему месту. Мне показалось, будто, когда я усаживался, председатель суда зачитал вслух лежавшую перед ним бумагу, — он действительно огласил какой-то текст, — потом я услышал, что судьи и присяжные удаляются на совещание и что начальника полицейского наряда просят охранять все входы и выходы в совещательную палату. Гул голосов вывел меня из оцепенения, и я понял, что все поднялись. Чья-то рука легла мне на плечо, я вздрогнул. Это была Соланж.
— Мы собираемся чего-нибудь выпить. Пойдем с нами, — сказала она.
Я заметил стоявшего рядом Робера, на его лице застыла принужденная улыбка.
— Да, да, пойдем с нами, — как эхо повторил он. — Выпьешь кофе и немножко взбодришься.
Ничего не отвечая, я вышел вслед за ними из зала, но, вместо того чтобы, как и они, направиться к буфету, свернул в коридор, ведущий к выходу. Соланж схватила меня за плечо.
— Но послушай, Бернар, куда ты?
— Домой, — высвобождаясь, ответил я.
Она с тревогой, почти что с ужасом взглянула мне в лицо.
— Как? Ты не дождешься приговора?
— Нет! — ответил я, охваченный внезапным гневом. — На приговор мне наплевать. Пусть их приговаривают к десяти, к двадцати годам или не осуждают совсем. Пусть их целуют или рубят им головы. Мне все равно.
И очки подскочили у меня на носу.
XII
Шагнув в прихожую, я сразу зажег свет и опустился на стул под самым выключателем, всего в полуметре от входной двери. Я расстегнул промокшее пальто, распустил галстук, прижался затылком к стене и замер не шевелясь. В моем опустошенном мозгу без устали билась одна мысль: «Ничего не осталось. Никакой иллюзии», и это бесконечное причитание повергало меня в состояние какого-то транса. Так я и просидел два часа, не переменив ни места, ни позы, пока не зазвонил телефон. Я поднялся, уронил стул, который зацепил своим пальто, и поспешил к аппарату, словно ожидал услышать какую-то важную новость — предположение нелепое со всех точек зрения. Но это звонила Соланж. Она хотела узнать, как я себя чувствую.
— Ты так изнервничался. Робер беспокоится. Он считает, тебе неплохо бы посоветоваться с кардиологом.
Поскольку я не проронил ни слова, она тяжело вздохнула и робко спросила:
— Ты не хочешь знать, какой приговор вынесли? — И, не дожидаясь моего ответа, выпалила единым духом: — Нольта получил десять лет, Порель — восемь, Ле Невель — пять, а остальные по три года. — Мое молчание вывело ее из терпения: — Тебя и в самом деле это нисколько не интересует?
Я заверил, что нет. Из чего она заключила, что я совершенно измотан и посоветовала мне принять две таблетки аспирина и лечь в постель с грелкой.