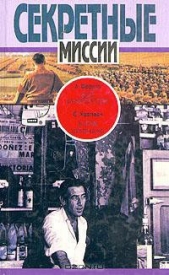Короткое письмо к долгому прощанию

Короткое письмо к долгому прощанию читать книгу онлайн
Повесть представляет свободную хронику нескольких дней, которые отмечены для героя тяжелейшим духовным кризисом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С улицы слышны щелчки переключающихся светофоров; по их команде трогались с места редкие в этот час автомашины. Позади меня, у стойки бара, мужчина беседует со своей девушкой, понуро склонившись над пустым стаканом и время от времени касаясь зубами его края. Выдержать всё это было выше моих сил, и я снова удалился.
У себя в номере я дочитал «Зелёного Генриха». Маленькая гипсовая фигурка, которую Генрих не сумел зарисовать, навела его на мысль, что он до сих пор никогда по-настоящему не присматривался к людям. Он поехал домой, к матери, которая всё ещё помогала ему деньгами, — и застал её уже при смерти, с трясущейся головой.
После смерти матери он долгие годы ходил как в воду опущенный, угрюмый и скучный. Но потом из Америки вернулась та самая женщина, что любила его, потому что завидовала его мыслям, тогда он начал понемногу оживать. Тут его история превращалась в сказку, и, когда и добрался до строк: «Мы мирно и радостно пообедали вместе в парадном зальце трактира “Золотая звезда”», мне пришлось отвести глаза в сторону, чтобы не заплакать. Потом я всё равно заплакал, мои слёзы сильно смахивали на истерику, но помогли забыть о времени.
Я лежал в темноте, и внезапно, уже в полусне, мне стало горько оттого, что у меня отняли деньги. Не то чтобы я жалел о них, нет, просто это была неуправляемая физическая боль, и никакие доводы рассудка не могли её унять: из меня вырвали кусок, и эта пустота теперь долго будет зарастать. Не хотелось ни о чём думать. Во сне кто-то свалился в огромную лохань, в которой мыли помидоры. Он исчез под помидорами, и я смотрел на лохань, которая почему-то уже стояла на сцене, и ждал, когда же он снова вынырнет. «Ещё хоть одно переживание — и я лопну», — громко сказал я себе во сне.
В Орегоне на следующий день шёл дождь. Хотя это строго запрещалось, я, стоя в своей соломенной шляпе у выезда из портлендского аэропорта, прямо на обочине ловил попутную машину в горы, до Эстакады. Самолётом авиакомпании «Вестерн-эрлайнз» я прибыл сюда с посадкой в Солт-Лейк-Сити; всю дорогу меня не покидало чувство, будто я чей-то двойник и передвигаюсь в абсолютной пустоте. Мне случалось читать про людей, перенёсших шок: они потом ещё долго жуют пустым ртом. По-моему, примерно так же и я очутился здесь, в Орегоне.
В конце концов нашёлся овощной фургон — он вёз салат из Калифорнии в горы, — водитель которого согласился подбросить меня до Эстакады. «Дворник» расчищал ветровое стекло только со стороны шофёра, так что дороги я почти не видел. Но меня это вполне устраивало — голова раскалывалась. Иногда удавалось забыть о боли, но при вздохе она всякий раз напоминала о себе. Шофёр был в ковбойке, из-под неё виднелась застёгнутая на все пуговицы нижняя рубашка. Видимо, ему всё время не давал покоя назойливый мотивчик, он то и дело распрямлялся на сиденье, словно готовясь запеть, но вместо этого только выстукивал мелодию пальцами по рулевому колесу. Он так и не запел, лишь однажды, когда мы поднялись уже довольно высоко и дождь постепенно перешёл в снег, принялся насвистывать. Сперва снег подтёками сползал с ветрового стекла, потом залепил его сплошь.
Эстакада лежит на высоте чуть больше километра, жителей в посёлке тысячи полторы, большинство заняты деревообработкой. Я поймал себя на том, что разыскиваю глазами таблички телефонов «Скорой помощи», пожарной команды и полиции. У въезда в местечко, в котором всего-то и было что две тихих провинциальных улочки да один перекрёсток, расположился мотель. На него-то и ткнул мне водитель. Я снял комнату на ночь, это обошлось в пять долларов. Я проспал до вечера, а когда проснулся, то не встал, а просто скатился с кровати. Потом мне стало холодно на полу, я накинул плащ и принялся прохаживаться перед включённым телевизором. Изображение плыло — Эстакада со всех сторон окружена горами. Я спросил у портье, как пройти к общежитию для бессемейных рабочих. Придётся идти через сугробы, снегоочистительные машины в эту пору уже не работают. В местечке почти мне осталось деревьев, лишь кое-где попадалась ель, сохранённая, скорее, как символ и пугавшая случайного прохожего высвобожденным взмахом своих лап, когда с них опадали тяжёлые шапки снега. Ещё несколько елей уцелело возле памятника пионерам-поселенцам, проходя мимо, я слышал, как там шушукается любовная парочка. Занавески повсюду задёрнуты, смрадный пар вырывается из вентиляторов кафе и решёток сточных канав, вокруг которых уже подтаял снег. Открытая дверь аптеки: человек с забинтованным большим пальцем пьёт кофе.
Лампочка над входом в ту часть барака, где жил Грегор, перегорела; наверно, снег на патроне подтаял, и получилось короткое замыкание. Я потопал ногами, обивая комья снега с ботинок, но никто не вышел ко мне. Дверь не заперта, я вошёл. Внутри почти совсем темно, только уличный фонарь освещает комнату. Я подобрал с пола листок бумаги, полагая, что это записка для меня, и включил свет. Это была телеграмма, которую я отправил брату с дороги.
На столе разбросанная колода карт, немецких, с пёстрыми рубашками, рядом маленький будильник, опрокинувшийся, видимо, от собственного же звона. На спинке стула два длинных обувных шнурка, все в коросте грязи, на другом стуле — пижамные штаны. Эту пижаму Грегор когда-то унаследовал от меня. Сверху на штанах разложен носовой платок с вышитыми цифрами — 248, мой номер и прачечной интерната. Этому платку не меньше пятнадцати лет.
Шкаф раскрыт настежь, от крючка на внутренней стороне двери к трубе печурки протянута верёвка, на ней кое-как, наспех развешаны кальсоны и носки. Я потрогал вещи, они были совсем сухие и уже жёсткие на ощупь. На холодной печурке — блюдечко, в нём — кусок прогорклого масла с вдавленным отпечатком большого пальца. В шкафу — несколько проволочных плечиков, на каких возвращают сорочки из прачечной; на некоторых — выстиранные, но невыглаженные рубашки, разорванные по шву под мышками.
Постель не застлана, на простыне — серые пятна убитой моли, одна моль и сейчас ползла между двумя складками. Под кроватью пустые пивные банки.
На подоконнике — флакончик жидкого мыла, вокруг — следы кошачьих лап.
Настенный календарь из Австрии, цветная фотография нарциссового поля, на его фоне — женщина в плетёной шляпе. Под фотографией штамп магазина нашего родного посёлка.
Фото на календаре…
В детстве мы видели так мало, а жизнь наша была так скудна событиями, что мы готовы были радоваться даже новой картинке на настенном календаре. Осенью мы дождаться не могли прихода страхового агента, который взымал годовой взнос, но в качестве вознаграждения оставлял календарь страховой компании — уже на следующий год и обязательно с новой картинкой.
Так неужели брат до сих пор просит высылать ему в Америку новый календарь?.. С повой картинкой?
Мысль об этом оказалась до такой степени нестерпимой, что повое чувство тотчас же вытеснило её, и мне стало легче. Я положил телеграмму на стол и очень осторожно, стараясь ничего не сломать, разгладил её другой рукой.
Ужо выходя, я заметил на полу возле корыта низкие полуботинки с парусиновыми мысками, почти полностью вмявшимися вовнутрь. У нас про такие говорили: «Каши просят». Остроносые ботинки, по моде десятилетней давности… По двору бойни носятся ребятишки с воздушными шарами, помощник мясника поднял и подержал мальчонку над тушей забитой свиньи… Не оглядываясь, то и дело поскальзываясь на утоптанном снегу, я уходил по главной улице Эстакады, прочь, прочь.
Было так тихо, что я всё чаще останавливался, прислушиваясь. Неоновые вывески «Пиццерия» и «Бензин» застилает пар. Далеко за посёлком мерцает экран открытого кинотеатра для автомобилистов, на нём — только мелькание света и тени, звука совсем не слышно. Я зашёл в зал игральных автоматов, но мне тут же расхотелось играть. И всё же я переходил от автомата к автомату, рассеянно следя за бегом шариков. Я вдруг ясно понял, что любые виды игр теперь уже не для меня: просто невозможно представить, чтобы я ещё хоть раз подошёл к такому вот автомату, или перетасовал карты, или выбросил кости. Внезапно всё это для меня кончилось. Я устало опустился на табурет рядом с пьяным, тот спал, привалившись к стене, всё лицо в поту, рубаха нараспашку, в ямку над ключицей набегает пот и время от времени ручейком стекает вниз. Пьяный раскрыл глаза, часто-часто заморгал, пока зрачки не приспособились к свету… шкурки освежёванных зайцев… я вышел.