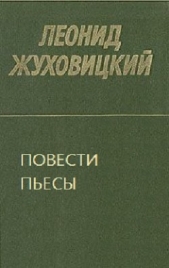Ночной волк
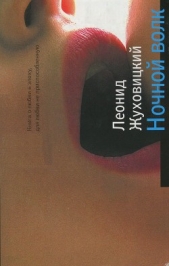
Ночной волк читать книгу онлайн
Леонид Жуховицкий — автор тридцати с лишним книг и пятнадцати пьес. Его произведения переведены на сорок языков. Время действия новой книги — конец двадцатого века, жесткая эпоха, когда круто менялось все: страна, общественная система, шкала жизненных ценностей. И только тяга мужчин и женщин друг к другу помогала им удержаться на плаву. Короче, книга о любви в эпоху, не приспособленную для любви.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возвращается Анжелика, устраивается рядом со мной, красиво садится, иначе, наверное, уже и не смогла бы, кладет голову мне на плечо, и мы образуем как бы пару, что очень удобно, ибо оба при деле.
Веруша, докурив, садится напротив. Ветхое кресло стонет и вздрагивает, а Веруша располагается поудобней и спрашивает весело и энергично:
— Ну, знаменитость, как дела?
— Да вообще-то… — начинает Анжелика и умолкает, потому что Веруша смотрит не на нее, а на меня.
— Привык уже к славе? — продолжает Веруша. — Была на вашей выставке. Любопытно. Язык есть. А дальше?
И опять, как когда-то, меня поражает способность ее стремительного ума прыгать через двенадцать ступенек. Куча вопросов, куча ответов — все мимо: Веруша сразу попадает в узел наших сегодняшних забот. Да, язык найден, мы пробились сквозь привычное, заставили себя смотреть и узнавать. А дальше? Смотреть заставили — но что покажем?
Веруша ждет ответа. К счастью, вот уже года два я довольно регулярно слушал Гришкины проповеди.
— А дальше, — говорю я, почти цитируя, — налаживать связь времен.
Веруша настороженно вскидывает брови:
— С прошлым?
Она явно в курсе словесных баталий вокруг той нашей выставки.
Успокаиваю:
— Мы мощами не торгуем. Хорош сегодняшний мир или плох, но он реален, другого у нас нет. Человек должен знать, куда ему жить.
Гришкины формулировки в моем изложении Верушу, похоже, не задевают.
— Позвал бы в мастерскую.
— Приходи, — говорю я и диктую адрес, который Веруша записывает на клочке газеты. Но по тому, как четко выводит цифры, чувствую — придет.
— А вот меня не зовет, — подает голос Анжелика.
— Ты же не просилась.
— Считай, что прошусь. Я тоже не прочь наладить связь времен, — говорит она то ли с горечью, то ли с вызовом. Но адрес не записывает.
Люба зовет за стол.
— Вообще-то мы только из-за стола… — начинает Анжелика. Но скуластенькая женщина обрывает, не оборачиваясь:
— Это твое сугубо частное дело.
— …однако за такой стол я готова хоть каждый час, — заканчивает фразу актриса и улыбается.
Мы рассаживаемся — Анжелика рядом со мной. От картошки идет пар, водка в стопочках ледяная. Пьем за встречу, хрустим огурцами, наливаем по второй, и вдруг наступает заминка. Люба смотрит на Верушу, а та молчит.
— Вроде бы налито! — весело напоминает Анжелика — но реакции опять никакой. И я вдруг понимаю, что пауза не случайна. В самом деле, за что же пить? За успехи? Но как в этой сложной компании понимать успехи? За хозяев? Но может прозвучать двусмысленно и даже бестактно, я не знаю, как у Любы с Пашкой сегодня, не знаю, кто он в этой квартире — может, просто пришел на вечер и уйдет вместе со мной. Абстрактно за любовь? Но стоит ли даже так невинно касаться подсохших болячек?
— Может, мужчина выручит? — как бы предполагает Люба и краем глаза косится на меня.
Я выручаю:
— За женщин!
Веруша говорит в пространство:
— Прекрасный тост! Для любой компании и любой политической системы.
Мы пьем за Любино кулинарное искусство — тоже прекрасный тост, за картошку — вообще великолепный. Впрочем, неважно, за что, важно, что пьем, напряженность спадает, атмосфера теплеет. Веруша, видимо устыдившись своей резкости, задает Анжелике какой-то вопрос, и та обрадованно, торопливо отвечает. Что у них, какая кошка пробежала? Понятия не имею, ведь годы прошли…
Снова говорят про нашу выставку, про меня, Люба сама не была, но что-то слыхала, достаточно, чтобы поддержать тему. Потом обсуждаем Любины новости, а они есть, и любопытные. Какой-то театрик в подвале на Юго-Западе, сотня мест, статус любительский, уровень профессиональный, уже пошли слухи, а скоро все заговорят — так вот Люба там директор, правда, пока оформлена сантехником при ЖЭКе, но это даже хорошо, ибо идет премия за безаварийность.
— Ты довольна? — требовательно спрашивает Анжелика.
Люба задумывается и отвечает:
— Понимаешь, это — театр.
Под горячую картошку пьется легко, мне тепло и уютно. Я с удовольствием смотрю в непроницаемые глаза скуластенькой женщины и пытаюсь поддразнивать:
— Я-то думал, мы уже во МХАТе.
Она невозмутимо возражает:
— Когда-нибудь окажусь и во МХАТе. Не уверена, что там мне будет лучше.
— У вас что, компания хорошая?
И опять она отвечает:
— Это — театр.
Я понимаю не до конца, и она снисходит до объяснения:
— Служба никуда не уйдет, все там будем. А это… — она ищет слово, — это как вторая молодость.
Я киваю — теперь дошло. И вдруг до меня доходит еще одно: что мы, собственно, не так уж и молоды, мне почти тридцать, девчонкам где-нибудь по двадцать шесть, зрелый, вполне зрелый возраст. Если вдруг и случится молодость, то — вторая… А еще мне жалко, что в первую молодость, в ту нашу общность и дружбу, не написал их портреты — одну Анжелику, и ту плохо. Если бы схватить тогда, и теперь, и потом… Вот так бы всю жизнь писать пять-шесть лиц, ну десяток, эпоху в движении, рождение и подъем поколения, а в конце победу или распад.
Вот и еще одним экспонатом пополнилась моя коллекция невоплощенного.
Люба идет ставить чай, я увязываюсь за ней. Зачем? Да так. Даже не поговорить, просто приятно на нее смотреть, на скуластенькое лицо, на спорые движения, на ореховые, с неуловимым лукавством глаза.
На кухне она закуривает и через плечо ловко пускает дым в форточку, бедром опираясь о подоконник. Я смотрю на нее и улыбаюсь просто от удовольствия.
Она спрашивает:
— У вас опять медовый месяц?
— Да нет, — говорю, — просто встретились. Почти друзья детства.
— Ну, ну, — то ли верит, то ли сомневается скуластенькая женщина.
Ее вопрос дает и мне право на аналогичный:
— А вы снова с Пашкой?
— Уже третий год.
— Ну и правильно, — киваю. Что правильно, не уточняю, ибо не знаю сам.
— Жизнь одна, — замечает Люба.
И я охотно соглашаюсь:
— Это точно.
Она молчит, и я начинаю как бы оправдываться:
— Ты не думай, я не из любопытства, просто я же ничего не знаю, не ляпнуть бы какую-нибудь глупость…
— Мы полтора года жили порознь, — говорит Люба и поднимает взгляд к форточке, вслед струйке дыма. — Знаешь, можно. Но я подумала: а зачем?
— Не разлюбила?
— Это все не те слова. Пашка — это я. Часть меня, как рука или нога. Конечно, можно ходить и на протезе. Но зачем?
Гасит сигарету и спокойно формулирует:
— Для меня Пашка незаменим.
— А как помирились?
— Очень просто. Проснулась как-то — солнышко, в окно зелень лезет. Ну, думаю, все, пойду к Пашке. И так сразу стало легко…
— Пришла и что сказала?
— А ничего говорить не пришлось. Взялись за руки, и чувствую — все, дома.
Она достает новую сигарету и, поколебавшись, сует назад, в пачку.
— Надо бросать.
— Надо, — говорю. — И худеть надо. Начинаешь терять форму.
— Через полгода похудею, — с усмешкой обещает она.
Потом мы пьем чай с роскошным Анжеликиным тортом, причем Анжелика берет крохотный кусочек без крема, Веруша ни в чем себе не отказывает, а Люба аккуратно намазывает крем на тонкий ломтик черного хлеба.
— Хорошо, что я не пошла на актерский, — комментирует Веруша Анжеликины ограничения.
А я вдруг думаю, что, может, и не так уж хорошо, что из Веруши с ее стремительным умом и грубой фактурой вполне вышла бы сильная неожиданная актриса, и режиссер вышел бы, вообще в театре она могла бы быть всем — мала ей, думаю, тесная площадка театрального критика.
— Ты где, — спрашиваю, — работаешь, все там же?
— Там я служу, — надменно отвечает Веруша, — а работаю дома.
— Она написала гениальную статью, — говорит Люба, — просто гениальную. Прочла бы, а?
— Не хочу.
— А я хочу, — невозмутимо возражает Люба.
— Ты хочешь, ты и читай.
Веруша нехотя достает из хозяйственной сумки пачку машинописных листков, протягивает Любе, но тут же отбирает назад и читает сама. Через минуту я понимаю почему: такие фразы приятно произносить вслух. А через пять минут понимаю, что Люба не преувеличила: Верушина статья действительно гениальна.