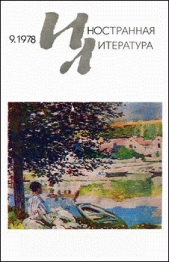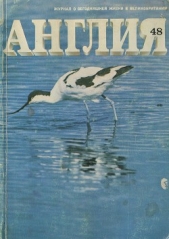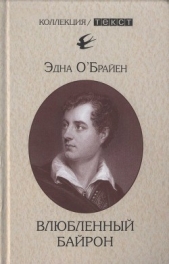Возвращение
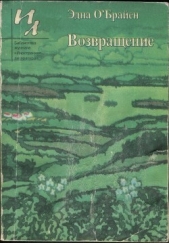
Возвращение читать книгу онлайн
Это книга о детстве ирландской девочки — во многом о детстве самой писательницы, живущей в Лондоне, но постоянно возвращающейся — и не только памятью, в книгах — на свою родину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Карнеро, разверни велосипед и поедем домой», — таково было мое страстное, оставшееся невысказанным желание.
Дед долго еще подтрунивал надо мной и спрашивал, не задница ли Карнеро мне больше всего нравится. Я же отвечала, что мне в нем нравится все.
Однажды во время вечерней молитвы дед неожиданно издал вопль, согнулся пополам, ударился о деревянный стул и, опрокинув его, повалился на пол. Умирая, он бредил. Умирая, он взывал к Создателю. Это было страшно. Джо не было, и бабушка с теткой вынуждены были управляться с ним одни. Они подняли его. На его побагровевшем лице цвета микстуры дико вращались почти выкатившиеся из орбит глаза; взгляд перебегал с потолка на побеленную стену, затем на цементный пол, на деревянную скамью, на бидоны с молоком. Сначала он корчился, как раненое животное, потом замер, издал жалобный стон, и на этом все кончилось. Спохватившись, что я здесь, тетка велела мне выйти в гостиную и ждать. Там было еще хуже. Я стояла в кромешной тьме, не зная, куда ступить, за что ухватиться. Я была там только однажды, когда по случаю прихода Тима меня послали за щипцами для сахара и чайником. У нас дома я нашла бы дорогу на ощупь — вот спинка стула, вот бахрома шторы, вот гипсовая статуя, — здесь же я стояла в темноте, не зная, к чему прислониться, за что схватиться, и думала: вот наступило то, чего он так страшился. Он остался один на один с тем, о чем боялся думать всю жизнь.
«Упокой, господи, душу раба твоего и души всех усопших».
Два дня в доме повторялись эти слова, звучали молитвы, пришедшие проститься с покойным курили глиняные трубки, по кругу передавались тарелки с пирогом и наполнялись стаканы. Мои родители тоже приехали. Они похвалили меня за то, что я выросла, будто это было моей личной заслугой. В черном моя мама выглядела старше, и я пожалела вслух, что она не надела на шею жоржетовый шарфик или еще что-нибудь яркое. Ей это не понравилось, и она отослала меня, велев прочитать «Исповедую тебе, господи» и трижды «Богородицу». Ее глаза были сухи. Она не любила своего отца. Как и я. Они с сестрой то и дело уходили в дальнюю комнату посоветоваться, не пора ли достать еще одну бутылку виски и подать коврижку или желе. Они скупились — часть продуктов нужно было оставить на завтра, когда после похорон соберутся близкие. Сейчас в доме толклась половина прихода. Дед лежал наверху, обряженный в коричневый костюм. На его подбородке серебрилась щетина; бледный и неподвижный, он походил на заиндевевшую доску. Попрощавшись с покойным, люди спешили вниз, на кухню или в гостиную, перекусить и поболтать. Никому не хотелось задерживаться в комнате с покойником, даже его жене, которая пребывала в состоянии возбуждения и раздражала тетку одними и теми же вопросами о еде, дровах и о том, сколько священников будут служить мессу.
— Положись на нас, — отмахивалась от нее мать, и тогда бабушка в сотый раз начинала рассказывать гостям, что у моей матери настоящий дворец и что лучшего дома во всей округе не сыскать, а мать на нее шикала, словно стыдясь этих рассказов. Отец дважды сказал мне: «Ну как, барышня?», а какой-то незнакомый человек подарил шесть пенсов. Монетка была старая и стершаяся настолько, что казалось, вот-вот растает. Человек был похож на священника, и я из почтительности назвала его «отец», хотя на самом деле он был лодочником.
Похоронили деда на одном из островов озера Шеннон. Большинство провожающих осталось на берегу, а мы, члены семьи, набившись в две лодки, последовали за третьей, той, на которой перевозили гроб. По озеру ходили волны, лодки бросало из стороны в сторону и заливало, и у нас сразу промокли ноги. На острове было полно коров. Испуганные неожиданным появлением людей, они начали громко мычать и носиться галопом; мне показалось, что глядеть на такое во время похорон непристойно. Никакой торжественности не было, и хотя тетя пошмыгала носом, а бабушка издала какие-то восклицания, истинного горя не чувствовалось, и это было самое горькое.
На следующий день они сожгли его рабочую одежду и выбросили на помойку заляпанные грязью сапоги. Потом тетя нашила траурные ромбы на одежду бабушки, Джо и свою. Она написала длинное письмо сыну в Англию и вложила в него ромбы черной ткани, чтобы он тоже мог их нашить. Он работал на автомобильном заводе в Ливерпуле. Когда говорили «Ливерпуль», мне представлялись целые груды ливера, отчего мне становилось нехорошо, и, чтобы отвлечься, я заставляла себя смотреть на свои новые часики, делая вид, что проверяю время. Дом помрачнел. Когда Джо отправился на сенокос, я увязалась за ним и, сидя рядом с ним на косилке, чувствовала, что немножко в него влюбилась. Дома было гораздо хуже: бабушка без конца вздыхала и вспоминала старые времена, когда, бывало, муж бегал за ней с кухонным ножом; она всхлипывала, тоскуя, и повторяла: «Бедняга, он ведь совсем этого не ждал…»
На сенокосе Джо трепал меня по коленке и спрашивал, не боюсь ли я щекотки. У него было славное длинное лицо, и он замечательно свистел. Ему было не более двадцати четырех, но он казался старше из-за того, что носил шляпу с мягкими опущенными полями и брюки, в которые влезли бы два Джо. Когда кобыла мочилась, он спрашивал: «Хочешь лимонада?» Когда она пускала ветры, он издавал непристойные звуки. Мы пообедали и потом еще немного посидели на краю полосы. У нас был с собой хлеб с маслом, фляга молока и отсыревший кусок коврижки, оставшийся с поминок. Джо улыбался мне, спел песню «Ты, любимая, печальней станешь по весне», и я чувствовала себя польщенной. Я знала, что дальше щекотки он не пойдет, потому что был робок в душе, не то что некоторые местные, норовившие завалить тебя где-нибудь в укромном местечке, и тогда уповай на бога. Подсаживая меня на косилку, он сказал, что завтра мы захватим подушку, чтобы мне было мягче сидеть. Но назавтра пошел дождь, и он отправился за досками на лесопилку, а тетя все причитала, что сено намокнет, а то и вовсе пропадет и зимой скотину нечем будет кормить.
В этот день со мной приключилась ужасная неприятность. Я бегала в поле, играла сама с собой в разные игры и любовалась радугами в лужах, и вдруг мне в голову пришло, что меня ищут, и я вприпрыжку побежала домой. Добежав до перелаза, я решила перепрыгнуть через него, но зацепилась и полетела головой вперед прямо в навозную кучу. Я шлепнулась с такой силой, что перемазалась с головы до ног. Это была огромная хлюпающая навозная куча. Каждый день сюда выгребали содержимое коровника, сюда же раз в неделю выбрасывали грязную солому из курятника и подстилки из свинарника. Это вам не в стог сена упасть, сухой и чистый. Хуже места выбрать было нельзя. Опомнившись, я решила, что мне, пожалуй, лучше все с себя снять. Плиссированная юбка, блузка и синяя вязаная кофта имели плачевный вид. Даже рубашка промокла. Вонь была ужасная. Когда, пытаясь соскрести с себя грязь пучком травы, я мылась под уличным краном, из дома появилась тетка и, увидев меня, закричала: «Боже милостивый, что же это такое творится!» Я побоялась сказать, что упала в навоз, и притворилась, что стираю. «Какая еще стирка?» — изумилась она, и тут ее взгляд упал на лежавшую у моих ног испачканную одежду. Она подняла с земли юбку и запричитала, кляня себя — мол, зачем она мне позволила надеть ее сегодня — и проклиная тот день, когда сам черт в моем образе вошел в их дом с чемоданом в руках. Я молча продолжала мыться, не отвечая на град вопросов, начинавшихся со слова «почему». Как будто я знала почему. Она принесла тряпку, кусок пемзы и таз с водой. Раздев меня донага, она стала мыть меня, не переставая браниться. Потом она замочила в тазу одежду, всю, кроме юбки, которую, сказала она, придется высушить, а потом вычистить щеткой. К счастью, бабушке она не стала ничего говорить.
Дня через два она простила меня, позволив мне посмотреть, как она взбивает масло. У нее было хорошее настроение, и она напевала. Я спросила, нельзя ли мне немножко покрутить ручку, но масло уже затвердело, и ручка шла туго. Как я ни пыхтела, у меня не хватило сил повернуть ее.