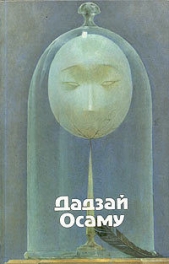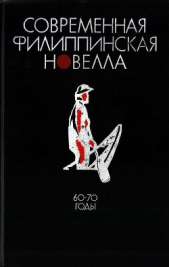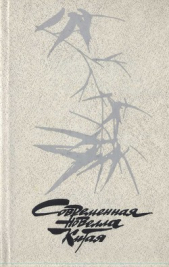Современная японская новелла 1945–1978

Современная японская новелла 1945–1978 читать книгу онлайн
В книгу вошли новеллы известных японских писателей разных поколений, созданные после 1945 года: Фумико Хаяси, Сётаро Ясуоки, Осаму Дадзая, Кэндзабуро Оэ, Такэси Кайко, Сэя Куботы, Сюмона Миура, Масудзи Ибусэ и других. Здесь представлены произведения, наиболее полно отражающие жизнь Японии и ее народа за последние тридцать лет. Большая часть новелл издается в русском переводе впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ямагути — авангардист, и всякие новшества — его страсть. У себя в школе он вечно экспериментирует с каким-нибудь мудреным приемом — то это коллаж, то декалькомания, то фроттаж. Вокруг его экспериментов всегда много шуму — бесконечные разговоры, дискуссии в печати. А между тем польза от всех этих новшеств — весьма сомнительная. Они бьют на внешний эффект и мешают ребенку проявить себя, что, впрочем, не уменьшает их популярности — особенно среди молодых учителей рисования. Вот и недавно Ямагути опубликовал очередную новинку под названием «фотокомпозиция». На фотобумагу кладется какой-нибудь предмет, потом она засвечивается. Многие учителя возражали — школьникам это не по карману. И все-таки идея Ямагути была признана новаторской и смелой.
— Воображение ребенка совершенно подавлено еще до школы. Надо его пробудить. А для этого любой способ хорош, — важно твердил Ямагути тем консерваторам, которые осмеливались объяснять ему, что цель и средства — понятия разные. Он упорно стоял на своем, разубедить его не было никакой возможности.
Особой сноровки эти приемы не требуют. При коллаже друг на друга в беспорядке наклеиваются клочки газет, обрывки цветной бумаги и пестрые лоскуты. А вот фроттаж: бумагу плотно прижимают к куску дерева или камня, потом штрихуют цветным карандашом, и рисунок готов — срез дерева, поверхность камня. Декалькоманию придумал Макс Эрнст: на лист бумаги капают краской, потом складывают его вдвое и снова раскрывают — на обеих половинках листа получается по одинаковому асимметричному рисунку. У всех этих приемов — один общий недостаток: они не дают ребенку раскрыть себя. Конечно, в какой-то мере они помогают ему избавиться от шаблонных представлений, поэтому я иной раз и сам ими пользуюсь. Но нельзя же сводить всю детскую живопись к коллажу, фроттажу и декалькомании! А Ямагути… Что ж, его новаторство всегда отдавало карьеризмом. По правде сказать, меня всякий раз настораживает холодная, неживая красота рисунков, которые делают его ученики.
Не знаю почему, но при мне Ямагути всегда говорит о госпоже Ота зло и пренебрежительно, хоть и пользуется покровительством этой семьи:
— Вполне заурядная дамочка. Таких в АРУ[29] полным-полно. Ну, может, немного щедрее других. Да что мне до нее! Лишь бы деньги давала.
Ямагути вообще не прочь позлословить о госпоже Ота: и заботу свою о Таро она выставляет напоказ, — еще бы, ведь он ей неродной! — и на людях слишком любит бывать, не сидится ей дома! Иной раз он позволяет себе даже игривые замечания насчет супружеской жизни господина и госпожи Ота. Быть может, их покровительство ущемляет его самолюбие и, перемывая им кости, он вырастает в собственных глазах. Как бы то ни было, я этих выпадов никогда всерьез не принимаю.
Ямагути — изрядный эгоист: он всегда постарается переложить свои тяготы на другого. Вот и сейчас он насел на меня — ему, видите ли, неудобно бросить ученика, — так, может, я его выручу? А то у него самого положение пиковое — выставка на носу, и он просто зашился, а надо еще натянуть все холсты на рамы…
— Хорошо, я беру Таро, — сказал я. — Только пусть ходит в студию пешком. Имей в виду, если мальчишка хоть раз припожалует на машине все будет кончено. Мои ученики — из бедных семей. Так что собственная машина у ворот студии — неподходящее для них зрелище.
Вот и все, что я сказал Ямагути. Сказал и повесил трубку. В каких словах он передал мое требование госпоже Ота, я не знаю. Как бы то ни было, в назначенный день она вместе с мальчиком пришла ко мне в студию пешком. Но когда, провожая ее, я вышел на крыльцо, то увидел через квартал от моего дома новехонький шевроле. Госпожа Ота, ведя пасынка за руку, подошла к машине, похожей на лакированный домик. Тотчас же выскочил шофер в форменной куртке и фуражке и вытянулся у дверцы. По счастью, ученики мои были заняты делом и ничего не заметили. Но мне стало горько…
Таро оказался запуганным, замкнутым, молчаливым, — словом, был исковеркан гораздо больше, чем я предполагал. Пока я беседовал с госпожой Ота, он сидел очень прямо и неподвижно, словно застыл… Не шелохнется, не поведет бровью. Такой воспитанный, сдержанный, невозмутимый маленький джентльмен. Я принимал их в комнате, служившей мне кабинетом, гостиной и спальней одновременно. Стены ее увешаны детскими рисунками, обычно вызывающими у новых учеников восторг и острое любопытство. В окно лился яркий свет послеполуденного солнца. А Таро сидел, не двигаясь, и с тоскою смотрел на пыль, густым слоем покрывавшую стол. Лишь когда мачеха произносила его имя, мальчик бросал на меня быстрый взгляд. В его смышленых глазах мелькал испуг. Но, убедившись, что я на него не смотрю, он тотчас же успокаивался, и на его бледном, красивом лице появлялось прежнее безразличное выражение. Я поглядывал на него украдкой и всем своим существом чувствовал, как он изранен.
У детей — свой особый запах. Он идет даже от моих рук. Я им так пропитался, что порою мне кажется — у меня детская кожа. Чуть сладковатый резкий запах влажной соломы и высыхающей на солнце травы. Он ручейками стекает с ребячьих рук, ног, шей, и когда дети надвигаются на меня, я чувствую их тепло. А у Таро этого тепловатого сладкого запаха не было. Взгляд мальчика время от времени скользил по детским книжкам, завалившим полки, по детским рисункам на стенах, но лицо его оставалось безразличным. Мою комнату наполняли пойманные и закрепленные на бумаге ребячьи эмоции, рисунки смеялись, визжали, веселились, мечтали. Но все это словно не трогало Таро, не доходило до него. Казалось, он может просидеть вот так вот, не шевелясь, и час, и два, и три. Лишь время от времени он поправлял свой костюмчик, чтоб не измялся. Я посмотрел на его чинно сложенные на коленях руки с вычищенными, аккуратно подстриженными ногтями, и мне почудилось — передо мною сидит ухоженная комнатная собачка.
— Учится он хорошо, не капризничает. Но какой-то он несамостоятельный, беспомощный. Усадишь его рисовать — рисует кукол или тюльпаны, а ведь он мальчик. Правда, муж говорит: ничего, лишь бы по основным предметам успевал, а уметь рисовать вовсе не обязательно. И все-таки…
Хоть госпожа Ота и жаловалась на беспомощность пасынка, чувствовалось, что она гордится его воспитанностью. Если бы я не знал, что и как, то, вероятно, принял бы ее за родную мать Таро. Держалась и разговаривала она скромно, с достоинством. Платье на ней было простой и строгой расцветки. Может, она и навязывается Таро со своей опекой — не знаю. Но уж, во всяком случае, никак не похожа на любительницу развлечений, этакую пустенькую веселую дамочку, какою ее изображал Ямагути.
Она сидела передо мной серьезная, чинная, как и подобает матери такого большого мальчика, второклассника, но не могла притушить блеска своей молодости. Порою в каком-нибудь жесте, в выражении глаз прорывалась неуемная живость. Когда она поднимала руку или поворачивалась, под платьем угадывались изящные линии ее гибкого тела. Гладкий подбородок, упругая шея, нигде лишнего жира.
— Должно быть, вы знаете — муж страшно занят. Совсем не может уделять ему время. Так что я сама купила Таро учебник рисования. Впрочем, я ничего в этом не смыслю. Усадишь его рисовать, но стоит только отвернуться, как он тут же бросает.
Госпожа Ота с горькой усмешкой раскрыла альбом Таро. Она переворачивала страницы, показывала мне каждый рисунок и подробно объясняла, как добилась успеха в том или ином случае. Таро сидел все в той же позе хорошо воспитанного мальчика и внимательно слушал. Я взял у нее альбом и незаметно перевел разговор на другую тему.
Как любая мать, хоть сколько-нибудь разбирающаяся в детских рисунках, она пыталась разгадать душевное состояние мальчика. Но нельзя ж это делать в его присутствии! В таких случаях взрослые, желая ребенку добра, лишь причиняют ему ненужную боль. Ведь рисуя, дети пытаются исправлять действительность на свой лад, а тут кто-то грубо вторгается в их душевный мир, и им от этого больно, словно их режут по живому, да еще посыпают рану солью… Словом, мне вручали комочек скованной ужасом плоти. А безразличие мальчика — просто тонюсенькая защитная пленка. Дети — те же эзоповские лягушки. Мать невзначай обронит резкое слово, и они уже съеживаются. Потом эта скованность начинает их мучить, а откуда она — им не понять.