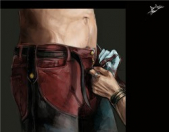Последнее лето в национальном парке (СИ)

Последнее лето в национальном парке (СИ) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И глядя сейчас в ее зеленые глаза, я поняла, что упустила свой шанс, когда имя наше было Лилит, упустила окончательно и бесповоротно, и теперь ничего не получится, потому что она уже съела свою половину яблока и теперь имя ее было Ева, а та была только обыкновенной женщиной, и ее желания не были тайной — уйти из родительского дома, и, обретя смертную душу, родить сына — чтобы служба Адаму не казалась медом. Тогда я зашипела и вцепилась ей в волосы, а потом все померкло, и очнулась я уже на левом плече своей хозяйки. Теперь она могла говорить, сколько угодно, а мне оставалось только слушать и подмурлыкивать ямбом. Пожизненное заключение с ежегодной дегустацией серы представлялось сейчас далеко не худшим вариантом.
Да, мяу, в ведьмы районного масштаба я не гожусь — дочери у меня не будет. Интриговали, ездили за реку, от отцовских претензий предохранялись, а смысла теперь в этом не более, чем в крестьянском масле, отсепарированном из кукурузы молочно-восковой спелости потомками кубанских казаков. А тратить жизнь на создание прецедента уж совсем бессмысленно — как разговаривать о чистоте, вместо того, чтобы мыть пол.
Специалисты будут вопить от восторга, а публика останется равнодушной. Кто же виноват, мяу, и что делать, если вопросы уже плывут весенними ручьями, а ответы колоколом пульсируют в голове, и этот колокол звонит по мне — да-да, нет-нет, да-да…
И я посмотрела в окно. Профессор Преображенский, мой дорогой Филипп Филиппыч, нарвавшись на непредусмотренные наукой трудности, уже сидел в кабинете пьяненьким, и папиросный дым двигался по кабинету густыми медленными плоскостями, сгущаясь вокруг головы медицинского светила в твердый и тяжелый нимб. Борменталь, действительно, был хорош собой, и черные глаза его мученически светились над окровавленной и перемазанной йодом ногой, а острая темная бородка вздрагивала нервно, но решительно.
Роль голубя в этой троице исполняла желтоглазая сова, изрядно потрепанная тем же Шариковым. Эта мудрая особа тайком от бога-отца старалась теперь проводить время в передаче «Что? Где? Когда?», куда шариковы не допускались.
— В сущности, я так одинок… — говорил создатель своему приемному сыну, рожденному женщиной, потому что с созданием из глины своего, себе подобного, ему крупно не повезло, — вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу…
— Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа, — диагностировал он мое присутствие, — мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения.
— Могу ли я узнать… — начала я.
— Что вы еще спрашиваете? — зарычал профессор, — все равно он уже пять раз у вас умер. Разве мыслимо?
— Профессор! Вы же московский студент, а не Шариков, — укорил его Борменталь, намекая на бестактность по отношению к женщине, и тут же, под шумок, приспособился к черной икре.
— Извините, я прекращаю свою деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует, — приступил было Филипп Филиппыч к новому самоистязанию, но тут взгляд его упал на приемного сына.
— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, — дал указание профессор уже совсем другим тоном, знаменующим отход от мучений, и тут мне удалось вставить словцо.
— Собственно говоря, я как раз по этому поводу! Мучаюсь в догадках уже лет двадцать…
— Извольте, — смилостивился профессор, — я сейчас еще говорю, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то я совсем умолкну.
— Что там у вас в третьей главе на лапчатой серебряной вилке — похожее на маленький темный хлебец?
— Это рыбные палочки, — оживился создатель, — ломтики филе белорыбицы нужно сбрызнуть лимонным соком, пересыпать солью, перцем и зеленью, обвалять в густом кляре и обжарить в кипящем растительном масле. Рекомендую, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
Я поблагодарила, но им было не до меня — разработка контрреволюционной операции по инверсии Полиграфа Полиграфовича шла уже полным ходом. Филипп Филиппыч был не из тех, кто размазывает манную кашу по письменному столу. Мне тоже пора было извлекать положительное из безнадежного.
Положительных моментов было четыре — до конца марта моя квартира была оплачена, несколько нетленных тряпочных изделий, приготовленных к продаже, все еще лежало во встроенном шкафу, детские вещи и продукты воры не тронули, и денег до лета хватит, однако стремление оптимизировать ситуацию одновременно по всем направлениям, являющееся, по мнению моего коллеги Сандро Раутьяна, основной бедой женской психологии, никогда не было мне чуждым. Нужно было что-нибудь придумать, и это «что-ни-будь» я придумала к вечеру.
До сих пор письма своим родственникам я отсылала из разных городов через приятелей Тищенко — некоторые из них часто ездили в командировки, и в письмах были весьма правдоподобные истории о моих этнографических экспедициях. Я позвонила родственникам и продиктовала им свой адрес, сообщив, что у меня заказ на книгу, я осела в Ленинграде, где и буду работать ближайшие две-три недели.
Через день, первого марта, я продала последние коллажи, и мои гастроли в Петербурге завершились.
Выйдя из метро, я пошла знакомой дорогой, и, миновав последний дом, вышла на снежный пустырь. Было темно и холодно, и все прохожие к этому времени уже достигли своего берега, и у каждого был свой, особенный, но берега светились за пустырем абсолютно стандартными желтыми квадратами — все, кроме одного, похожего на старый темный чемодан.
По мерзлой земле я ступала как можно тверже, потому что уже не умела летать, но маленькие бесы тут же закружились в поземке вокруг меня — ведь я все-таки родилась одной из них, хотя долго не знала этого, и их темненькие мордочки смотрели с тревогой и участием, и, пролетая мимо меня, они совали мне в варежки красивые снежинки, но снежинки таяли быстро и слезно, и варежки мокли, а я тихонько плакала, и мои слезы тут же замерзали ледяными капельками, и бесы уносили их с собой, как ответный подарок, куда-то ввысь, куда мне самой было уже не добраться, а потом возвращались ко мне и мелькали в колючем ветре, пока я не вошла в подъезд. Поднявшись на последний этаж, я зажгла свет, и мое окно засветилось — все, как у всех.
Смахнув с лица последнюю льдинку, я положила варежки на сковороду и густо заправила их одеколоном. Варежки горели ярко и весело, как соломенная Маринка на похоронах славянской зимы, и снежок на балконе тут же заплакал — кому же еще плакать в этот день, когда всем хочется улыбаться и петь веснянки? И я сгорала вместе со своими варежками, как старая солома, чтобы меня развеяли по ветру, а потом снова посеяли прошлогодним зерном и сожгли без сожаления следующим мартом, а иначе и жизнь — не жизнь.
Боги, боги мои! Как тяжко давит мне плечи память тысячелетий, и я снова проклинаю ту давнюю весну, когда мир был еще совсем новеньким, и так хотелось обустроить его для детей, что мы, захлебываясь делами, поделились властью с одним энергичным парнем, назвав это время мартом, потому что в марте, когда пепел тел наших, развеянный по полям и лесам, уходил вглубь в сырую землю, а мы, прорастая снова и снова, впитывали его из земли как веру и силу и силились выйти из черноты, мир оставался без присмотра, и было нам тяжко и страшно — как они там живут без нас?
И, выйдя однажды на свет, мы не увидели своих сыновей — Марс увел их в поход, и они обнажили мечи, потому что чужое уже казалось им слаще всего на свете, и дятлы отбивали солдатам барабанную дробь, и быки ревели от ужаса, и кони неслись вперед, пока их мертвые головы не застывали на копьях в знак победы над детьми из соседней деревни, и мы смотрели в пустые глаза сыновей, и пепел мучений наших стучал в сердце — убей оборотня, убей того, кто теперь сладко ест и сладко спит, потому что ему не жаль детей — ни своих, ни чужих. А потом время двинулось дальше, и минуты сложились в тысячелетья, а мы так и не убили его — мы, конечно, старались, но мы так рьяно сражались за правое дело, что и понять уже было сложно, то ли результат нам так уж важен, то ли запах сражения приятен и сладок, и все дела!