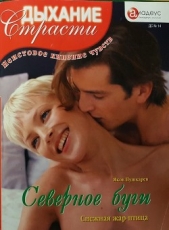Буги-вуги

Буги-вуги читать книгу онлайн
Бирлять, лабать, кирять, кочумать, срулять, дрыхлять, барать, лажать.
Сказ и бухтина, анекдот и антрекот, смешно и грешно, спьяну и спохмела.
Несовершеннолетним и девицам не рекомендовано.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Недолго сказка сказывалась. Прихожу как-то из школы — дома тётя сидит. Такая тётя. Вся при всём. Минька красный, как переходящее знамя. Попался, который кусался.
Чаёк. Тортик-с. Я сразу вроде как ошибся: что вы, что вы, я на минутку, за конспектом, зачет через пять минут.
Что тут нового? Что неожиданного? К этому и шло. Странно, что не раньше.
Проповеди Минька позже пересказал: «У девочки экзамены, восьмой класс, переходный возраст, первая любовь-школьные года, вы же взрослый человек, можете на нее повлиять, попытки инсценировать суицид — вот такая не простая ситуация, нам нужно вместе ее решать».
Усикаться можно. Ситуацию вместе решать. Кроссворд с тремя известными. А всё что? Укусила тебя собака — кирпичом ее и чеши домой, пока еще раз не укусила.
Да, взяли с Миньки честное благородное, что будет ходить «к нам на чай. И товарищей с собой обязательно приводите». Рокировка в длинную сторону — Минька-то ксюшу, не знамши, к нам в кабак таскал, плясал с ней, с сурьезным видом, задирал коленки. Ох, лишенько. Теперь извольте. С ответным визитом.
Миня деланным голосом: а чего: пойдем! пирогов налупимся.
Нет уж, мил человек, вляпался в говно, так не чирикай: ходи-ка, батюшко, сам. Сидеть там кислизм выдавливать — поперхнешься этими пирожками с капустой. Я — точно: пас.
Мине одному — ну, никак, один в поле не воин — уговорил Кушу за Минькины же джинсы поносить на неделю.
Куша: дом — всяких даров и качеств приятство:
злато-серебро, ковры-сервизы — парень в этом сечёт, так что без балды;
четыре комнаты одна другой краше;
мебель такая шикарная, как в цирке;
папа — граф Монте-Кристо, и мама — полководец Суворов;
ладно собака-орденоносец, так кот-половик и тот заморских кровей.
Миньке, мол, поумней — год продержаться, да другой простоять, а там, глядишь, пирком-ладком, да Мишутку на царствие. Благо все предпосылки к этому: папа — военпред на почтовом ящике, мама в горисполкоме торговлю курирует, дедушка — красный рубака на белогвардейских фронтах, бабушка — первая красная учительница, до сих пор из президиумов не вылезает.
Гарнитур, а не семейка!
У Мини воспоминания не столь радужные. А точнее — никаких. Почему-то эта история его так тряхнула, что при одном упоминании о милом семействе, Миню крючит пизанской башней.
Да, отдал долг татарину, в дом с большими потолками сходил, подпустил как бы исподволь, невзначай, де на носу диплом, бессонные ночи, квадратные километры чертежей, умные книжки по допускам и сопромату… История на этом и ушла б под откос — ясно ж, как глазенки у Володи Ульянова, что эта песня не о нем, — тем более, что джульетте экзамены высочайше перенесли на осень и скоренько упекли на Черноморское побережье Кавказа под бабушкин надзор, но письма-то, не одно, так три сразу. С круглым, старательным почерком. С ними что будешь делать?
Смотришь на всё это — и жалко ведь девчёнку. Смейся не смейся, а там любовь. Кто в школе не влюблялся? Те еще трагедии, лировские. В лужах голубых стекляшки льда. И пишет Минька, отписывает — никуда не денешься, — уму-разуму учит, как правильно с мальчиками дружить.
Так вот. Девочка с бабушкой-дедушкой на море. Папа в дружественной стране Анголе. Всё ясно?
Нет, не Миня.
Нет.
Пока умный раздевался, дурак речку перешел.
Классик наш завернул спьяну на огонек и до утра остался. Смелость города берет. А наглость, как народ говорит, еще большее достоинство. Сначала сидели на кухне, чаи гоняли, за молодежь речи вели, лицемерили. Как положено в лондонах и парижах, под чаек — коньячок. Тётя-мама в халате, Куша, нетрезвый, ее за локоток — прошло, за бочок — прокатило, за ляжку — она его за руку цоп! и себе, в берендеево царство. До кровати кабаниху у молодого сил не хватило дотащить — в прихожей на паласах и рухнули.
Не баба, говорит, а зверь. Еле вырвался.
Тёщенька Минькина.
Зятёк с этим весельем, как с креста снятый ходит. Легче, говорит, конец завязать на всю оставшуюся жизнь.
Весна-проказница. Мир-труд-май.
Казусы донжуанские да и сами праздники плавное течение жизни замутили безжалостно. Времечко, как река на порогах, вскачь полетело. Только и оставалось, что смотреть ему вслед, прищурясь.
Восьмого числа, на День Мира, совершили подвиг — выбрались, наконец, на природу. Сели в автобус сугубо мужской компанией и доехали до водохранилища. До берега пустынных волн. Кто у моря не философствовал? Вода. Кое-как недожарили шашлыков на сырых ветках, выдули шесть литров пива, корректируя работу почек, попекли «блинчиков» там, где берег ряской не заволокло, показали пуп солнцу, поколдовав на хорошую погоду, да к родным стенам, обклеенным цветными картинками.
В кабаке же, на другой день, мориман один — ну, заколыхал. Восемь раз «Прощай» [76] играли. Платит, ротшильд, по чирику. «Прощай, со всех вокзалов поезда!» Мы и десять сыграем, и двенадцать — работа наша такая, — но когда набравшись выше ватерлинии, селедочник решился, что наступил момент самому исполнить любимое произведение, и с этой целью схватился за микрофон, швырнув очередную десятку, Минька озверел, встал из-за барабанов на свою коломенскую и сказал тихо, но убедительно:
— А ну, греби отсюда к бую. И прощай.
Тут покоритель пучин морских сообразил, что его могут не так понять и аккуратненько умылся. До конца вечера песни в его честь больше не звучали.
После того как погасли кушинские светофоры и перестала звенеть струна, боцман вынырнул с бутылкой коньяка — выпьем и выпьем. Пристал, как леденец. Ну пошли, выпьем, водяной с тобой! Расположились в банкетном, разбросали пузырь на пять стаканов. Моряк замахнул, не закусывая, и заплакал, не вытирая слез. Жена, говорит, от меня, ребята, ушла. Пришел с рейса — ни холодильника, ни телевизора, ни шмоток и записка лежит: так и так, не ищи, и заявление тут же в суд, нотариусом заверенное: не возражаю с разводом. Плевать на тряпки — всё внутри убила.
Сыграли чуваку еще раз «Прощай».
Бесплатно.
На полную катушку. На полную ручки вывернули.
Пол шатался.
27
А Манычу — до звезды. Он и в среду не пришел. И в четверг. А в пятницу Куша его в железке видел не то слово, что тепленького, а в крайне негармоническом состоянии.
— Оборзел уже! — разозлился Минька. — Надо из зарплаты вычитать. Или вали на хутор бабочек ловить!
— И пусть канает! Редиска-сосиска, Навуходоносор.
— Обдолбается и дудит в четыре часа ночи, — поддакнул Лёлик. — Анаша забирает, глюки в башке-то: в Нью-Орлеане он выдает, а Армстронг по плечу хлопает: «Классно лабаешь, чувак, фоллоу ми».
— Устроился на работу, так уж будь добр, — не унимался Минька. — Только разговоров: то не так, это не эдак. Драма у него, блядь. «Невостребованность». Мир без него, фигуры, рухнет. Как же, в центре картины. «Я и другие». Да срать я хотел, что он охуенный музыкант! Не нравится, — он показал большим пальцем через плечо, — иди в симфонический оркестр. Так не идет. Не идет ни хрена. Потому что там таких великих музыкантов складывать некуда. Там не порассуждаешь: кого ебать, вся жопа в шрамах. Великий Гудвин!
Я с Минькой целиком и полностью: любишь кататься — катись! Но. По правде говоря, без Маныча мы — гарнир без котлетки, говоря гастрономическим языком. Чего уж там. Откроем Вию глаза: если кто и приходил в Утюг помимо всякого музычки послушать — то его саксофон в первую очередь. И вполне даже незряшний слух как-то о Маныче стороной прошел, что будто бы в стародавние времена забугорцы полстолицы объезжали, чтоб кафешку найти, где русский Паркер лабает. Однако ж и другое слышать приходилось, будто бы все эти байки сам Артуха и придумывает, да о себе хорошем на каждом углу привирает. И мы тоже, без пиетета: «Артуха, не учи нас жить». А кому еще? Кому как ни ему? Не кого-нибудь из нас, а его пытались в пивной ресторан перемануть, что на Черной речке. Но синичку хоть на пшеничку — сам понимает: сюда-то с грехом пополам приползает, а туда пива хлебать за семь верст, ему совсем не с ноги.