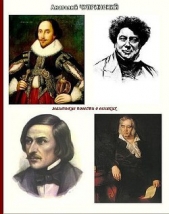Неферомантика. Маленькие "детские" повести (СИ)
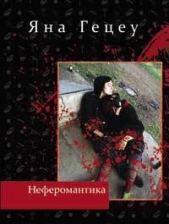
Неферомантика. Маленькие "детские" повести (СИ) читать книгу онлайн
— И про осиновый кол — не сказки. Быстрое разложение обеспечено, он ломает мою защиту на вас, моих людях, так скажем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но еще не понятно, как к этому относиться. Умылся и лег на спину. Вода сомкнулась надо мной и хлынула в нос, открытый рот. Когда весь ей наполнился, встал, вышел на берег. Хотел спросить — что теперь? Но не смог, горло не слушалось, изо рта хлынула вода. А Хозяин велел мне влезть на одинокую ветлу у озера, и свеситься вниз головой. Чтож, так и сделал. Он держал меня за ноги, чтоб не грохнулся, как навозный куль. Изо рта и носа вышло много, очень много густой, мутной жижи. Но вкуса у нее никакого. Потом будто начал стынуть, как-то неуклюжить. Позже пришел холод. И… голод? Я тупо шел, двигался за Хозяином, не знаю куда. Он был прав, подлец — теперь всё, весь мир будто перевернулся. Стал неуютным. Не своим. И все тело мое стало неуютно. Зачем я сделал это?! Я не хотел этого. Теперь точно понятно. Но разве можно обратно? Поздно.
Я поднял глаза. Оказалось, мы пришли ко двору бабки. Вся широкая полянка перед ним была заполнена — они все уже были здесь. Улыбались и ждали меня. Я почувствовал их всех товарищами своими. Они такие же, как я. А я такой же, как они. На крылечке я заметил Машу. Она стояла, обнявшись с бабкой. Красавица помахала мне ладошкой. Я улыбнулся ей, и тоже помахал. Я — свой. Вот и все, теперь — в самом деле.
Хозяин подвел меня к ним.
— Народец мой, смотри, вот новообращенный брат ваш! Примите его в объятья свои, как приняла его смерть, ваша мать! — последнюю фразу он выкрикнул, как Цезарь, перед войском вскинув одну руку, другую любовно положив мне на плечо. Он — мой Хозяин.
Они принялись подходить, говорить что-то, обнимать и тормошить меня. Кто-то натянуто улыбался, кто-то поздравлял. Но никто, ни один не был в самом деле рад. Последней подошла Маша. Она погрустнела, посмотрела мне в глаза своими мертвыми глазами, обняла и долго не отпускала, шепча:
— Ну вот и все, Шут, теперь ты с нами. А я так хотела, так надеялась, что ты живой останешься.
Она не всхлипнула, но когда оторвалась, и я заглянул ей в лицо, по бледной щеке сползла грязная, мутная, медленная слеза.
— Я ведь просила тебя. Ну почему ты не послушал? — и припала к моим губам. Теперь это было совсем другое. Ведь мы равны с ней. И ее поцелуй… как его описать? Если целуешь живую — с ума сходишь. Если мертвую — удивляешься. А если ты сам…? Словно весна за стеклом, курение по телевизору, секс под наркозом. Это есть, и даже с тобой, но… вот так как-то. Она не отрывалась долго-долго, будто не хотела верить, что — все, я кончился, потерян для нее. Потом резко отвернулась, и пошла прочь. Я посмотрел ей вслед, хотел вздохнуть, но это показалось лишним.
Взгляд наткнулся на Дамира. Он злорадно ухмылялся. Подошел ко мне:
— Молодец, Юрок, поздравляю! — и похлопал по плечу. Это «Юрок» стегануло, наподобие боли. Что, это… мое имя? Да нет, его больше нет. Ни у кого здесь нет имени. Имя — для живых. Мне нужно скорее привыкнуть к Смерти. Только так — с большой буквы. Я хотел подумать о чем нибудь — и не смог. Нет, оно думалось, вроде, но… по-другому, что-ли? Осознание — есть. Боли — нет. Имени — нет. Тело — деревянное. Я — этого хотел?
— Что мне теперь делать? — я подошел к Хозяину.
— Что хочешь, — пожал он плечами. Пойди вон, потрахайся, — и кивнул куда-то в сторону.
Я оглянулся. Дамир заржал, громко и злобно мне в спину. Наконец я ее заметил. За забором, по ту сторону, стояла девушка. Она была в белом платье, удивительно чистом, и печально заглядывала во двор, положив подбородок на ладони. Иссохшаяся, кожа как у мумии. И очень-очень грустная. Я подошел к ней, она встрепенулась мне навстречу.
— Почему ты там стоишь, не заходишь?
Она покачала головой, пересушенные тусклые волосы мотнулись веревками. Посмотрела куда-то мне за спину как собака, с истинно смертельной тоской. Я проследил за ее взглядом — на крыльце бабка обнимала того пацана, мальчика-звезду, внука своего. Он бросил в нашу сторону злой, даже жестокий взгляд.
— Почему? — обернулся я вновь к девушке. Она как-то отчаянно изломалась. И сев под забором, завыла. Хрипло, и будь я жив — страшно. А как вы хотели, чтобы выл мертвец? Я еще раз оглянулся — бабка смотрела на меня осуждающе и предостерегающе — мол, не говори с ней. Пацан — еще более зло. Где были остальные, я не заметил. «Не ходи к ней!» — говорила глазами старуха. Почему? Мертвушка выла, кусая руки. И я вышел за калитку. Она зловеще скрипнула, оппозиционируя меня к ним. Зато с ней. Я быстро подошел, селя рядом, обнял девушку. Она вцепилась в меня.
— Ну, что такое? — гладил я ее по голове, механически, понимая — были бы живы, мне было бы очень больно от ногтей, и я бы жутко ее хотел.
— Девочка моя бедная, ну что ты! Моя маленькая бедная девочка, — я качал её в объятьях, и она постепенно затихла. Гладил ее по спине, путался в грязных волосах. Она такая знакомая. Я ведь раньше был почти чистый кинестетик, все у меня шло через тактильность, память рук хорошая. И это, кажется, не совсем утратилось, ведь кожа рук еще вполне целая. Её плотная спина, и соски упершиеся в грудь… я не знаю, как это объяснить, но обнимая иссохшегося мертвеца, я чувствовал живую, нежную плоть. И еще — я мог девчонку в лицо не помнить, но если с ней спал хоть раз — на ощупь вспомню. Так вот, ее я точно брал. Я был пьян, было темно. Она пришла сама. И лучше ничего в жизни не было. Отстранив девушку от себя, заглянул в прекрасное вновь лицо:
— Ты! Это ведь ты! Ах ты, кошка ты моя сладкая!
Она улыбнулась, и я поцеловал ее. Да, это она приходила ко мне на печь, в первую ночь у бабки. Ах, какая она была восхитительная, и даже горячая. Увлекаясь за ней в траву, я забыл, что мертв!
— О, моя маленькая, маленькая девочка! — шептал я, целуя бесловестные губы. Возвращаясь в рай.
Когда все закончилось, я хотел было завести новую подругу во двор, где уже никого не было. Но она замахала руками, и потащила меня куда-то через бурьян. Я послушно брел за ней. Мы вышли к засохшему болотцу. Она села под дерево, я устроился рядом с ней. Она молчала, я тоже. Запрокинув голову, девушка любовалась на огромную, прекрасную луну. А я ощутил первый сильный голод. И понял вдруг, куда делись все остальные — пошли искать еды. А она — почему не с ними?
— Послушай, а почему ты за забором сидела?
Она мучительно сморщилась, поворачивая голову ко мне. Открыла рот, потом закрыла. Помотала головой.
— Что с тобой?
— Сейчас поймешь! — голос грубый, грязный, карябающий, бесформенный какой-то. Я бы сказал — отвратительный.
— А как тебя… эм-м, зовут?
— Звали, милый, звали! Сейчас никто не зовет, все гонят. Было имя — Саша. Шура. Я вешалась, думала, напишут на могиле — Александра Викторовна Хотеева, тысяча девятьсот… а, да и хер с ним. Нету у меня могилы. И тебя вот не похоронят на третий день. И дней у тебя не будет. Солнце нам нельзя.
— Почему? — снова спросил я, глупый почемучка. Она посмотрела мне в глаза, зрачки огромные, луна отразилась в грязной слезе, сбежавшей по щеке.
— Разлагает.
И уткнулась мне в грудь.
— Только ты меня не гонишь, пока! А скоро и этого не будет.
— Я не прогоню тебя! Ни за что!
— Врешь. Хозяин скажет — и отвернешься.
— За что мне тебя гнать?
Она помолчала. Затем, не глядя:
— Из-за сына. Он меня видеть не хочет. Не простил. Хочешь, расскажу?
Я кивнул.
— Ну, мне уж терять нечего. Все равно уйдешь. Слушай. Я сама из Уфы. Замуж вышла здесь. Он меня любил. А я — дура. Просто веселилась. Сына родила. А в городе гостила — загуляла. Показалось, и не было никогда другой жизни. Сына забыла, с-сука! Эх, кабы знала! Живу, значит себе, другого нашла. Мама молчит, а чего скажешь, я все равно не слушаю. А вот ночью один раз вдруг стукнуло — это как же, я здесь кувыркаюсь, а там — муж, ребенок! Что ж я делаю? Прям хоть беги пешком, тоска така-ая! Хватилась — и на электричку! К свекрухе — где мой дорогой? А он по-пьянке сгорел, по мне маялся. Я вся похолодела, и в сарай. На том же месте, где мой сгорел, новый отстроить уж успели, я там и повесилась. Думала, все, отмаялась. Ан, нет! Повисела, меня бабка и снимать не стала. А ночью сама из веревки вылезла. Вся облеванная, шея синяя. Холодно. Тускло. Че такое, не пойму! Пошла к свекрухе, стучу, она вышла, руки на груди сложила. Ну че, говорит, милая, доигралась? Пошла, говорит, вон, чтоб я тебя не видала больше, гадюка дохлая! И сына не трогай! Я ее умолять хотела — скажи мол, чего это со мной? А ни слова выговорить не могу, горло повредила. Теперь-то слышь, каркаю. Кое-как отошло. Пошла я прочь со двора. Стала где ни попадя мыкаться. С голодухи все пыталась ребеночка утащить, или девку какую. Корову на худой конец покусать. Да куда там! Не дал мне Хозяин ничегошеньки, я крыс грызла, как повезет, их тоже поди поймай!