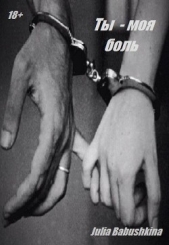Чего не было и что было

Чего не было и что было читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Автор передовицы «П. Н.» усмотрел, что г-жа Кускова, в своих рассуждениях, забродила где-то недалеко около места опасного: около «покаяния». Не думаю, чтобы самой Кусковой грозила эта опасность; и забрела-то она сюда не волей — собственные слова лукаво подвели. Но вообще «покаяние» (заметим, именно русские к нему склонны) — это нередко заключительная глава той «любви к истине», о которой у нас идет речь. Это ее крах. Грандиозному (в представлении) соответствует только грандиозное, а поэтому всякое признание своей ошибки мыслится как неизбежный крах; не просто «признание» — но «покаяние»; то есть —
и, с пеплом на голове, с криками, удалиться под сень струй…
Понятно, что при одной мысли о таких перспективах — человек уже сам не свой и на все готов, чтобы охранить свою «истину» от «правды»: если можно — заткнуть другому рот, если нельзя — себе уши.
Только не «русская» любовь к истине, скромная и тихо-сознательная (м. б., по Кусковой, это не любовь?) — только она одна никаких правд не боится. Напротив, жадно ищет их, больших и малых. Увидеть свою ошибку — да ведь это чистейший выигрыш, прибыль, которой так не хитро воспользоваться! Признание ошибки не требует. Боже сохрани, никаких коренных ауто да фэ; нет, просто лишний добрый камень для фундамента будущего.
Впрочем, г-же Кусковой и ее окружению этого не объяснишь. Застарелое сектантство непроницаемо.
Мне только хотелось бы сказать «еще два слова о другом, или почти о другом: о недавнем «письме из Москвы» в «Пос. Новост.».
Письмо не имеет ни малейшего интереса. В нем нет ни звука нового, ничего, что мы давным-давно уже не знали бы, не читали. И совершенно не интересно, откуда оно исходит, кто и где его писал. Пусть написал какой-нибудь тамошний «передовой» интеллигент; это очень возможно. Посадите человека в закрытую камеру, твердите ему все тем же голосом, 11 лет, все то же самое, и вы думаете, что он, в конце концов, не поверит? Поверить, что бы это ни было, и кто был ни был. Вот фотография: снята свалка тряпичника, а подписано: жилище французского рабочего (см. «Илл. Россию»). Верят, конечно. Было бы чудо, если б не верили…
Вполне допустимо также, что автор «письма» — какой-нибудь хитрец из полпредства. Не все ли равно? Что это меняет? Письмо остается той же знакомой жвачкой; с ней эмиграции ровно нечего делать.
Что касается г-жи Кусковой — давно вышивает она свои узоры по известной канве ненависти русских «настоящих» (в России) — к русским эмигрантам. Будет и дальше вышивать. За ней не угонишься; впрочем и охоты особой гнаться нет, — уж очень шерсть, которой она пользуется, неприятного сорта: «Хоть плохи большевики — да наши!».
ПИСЬМО О ЮГОСЛАВИИ
…Вы спрашиваете о белградском съезде? Праздничных банальностей повторять не хочется, а если отметить что-нибудь по существу, более значительное и характерное, — оно окажется непонятным. Поэтому я и думаю, что надо прежде всего поговорить о Югославии. О ней и о тамошнем положении русской эмиграции; о том, что мы ждали увидеть — и что увидели и успели узнать.
Наша эмиграция парижская (или «французская») имеет о Югославии представление очень твердое, давнее и так давно и крепко установленное, что и к пересмотру ни у кого уж нет интереса. Вот это представление, — в самых грубых чертах, конечно: полуевропейская Сербия, страна беспокойных Балкан (где всегда стреляют); Белград — что-то вроде большой деревни, с турецкой еще грязью, с ленивым бытом (когда не стреляют), со специфическим национализмом. Естественный приют для монархистов, главное гнездо русских эмигрантов этого толка. Туда они стеклись, и там, в родственной атмосфере монархической Сербии, — расцветают. Марковцы и ново-временцы, спаянные с карловчанами, вот кто дает тон эмигрантскому кругу в Сербии, и тон этот совпадает с сербским.
Так (или вроде) представляют себе Югославию и «левый» русский парижанин, и «правый». По-разному только относятся: левый, конечно, отрицательно; правый, конечно, положительно. Равнодушный — равнодушно.
Не могу сказать, чтобы и мы были совсем чужды этому общему представлению. Но было также сознание необходимости от него отрешиться, «освобожденно» взглянуть на то, что есть. Освободить от предвзятости даже «впечатления»… Выводы — потом.
Отмечу первое впечатление, очень внешнее.
Россия? Мы, эмигранты западные, латинские, от чего-то в ней, кожно-зрительно, отвыкли: от цветов неба каких-то, от речного пространства, запахов, состава воздуха, от каких-то звуков речи, темпа движений…И вдруг оно, отскользнувшее, вернулось, — там, в Сербии, — вошло снова в память существа, вызвало реальное ощущение России. Не «умиленное воспоминание о потерянной родине» — именно ощущение ее, — в ее сложности, со всеми «да» и со всеми «нет».
«Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь». Это сказал Достоевский… давно, и это вспомнилось мне на берегу Дуная, когда первое впечатление близости к России сменилось вторым — дальности; нет, не русские берега, не русская страна. Корни языка, письменность, церковь, годы порабощения, ужасы войны — все это общее; а вот не «расплывается в грязь» маленькая когда-то Сербия; войне «дала отпор» (и какой!), а теперь, упавшие камни уже подобрав, несет новые, кладет, строит, работает, работает… и не лихорадочно, а с каким-то молодым напряжением. Белград — расцветающий город. Расцвет почти волшебный, если судить по сроку, в какой сделано то, что мы своими глазами видели. И уже сейчас — как не похож Белград на «балканскую деревню» нашего представления! Вот первая к нему поправка — чисто, пока, внешняя.
Но ничего мы не увидим, не поймем во внутреннем, если, во-первых: не будем брать Югославию в динамике, в движении (как она сейчас есть) и, во-вторых: не будем все время считаться с ее историей. Никакой народ из своей истории выскочить не может. Но он может пользоваться своим прошлым двояко: целиком тащить его за собою, словно камень по кругу, или выбирать нужное, перерабатывая его для будущего. В сербской истории, — я говорю о Сербии, — есть много, чем она может, на благо себе, воспользоваться. И похоже, что воспользуется.
Сербия, прежде всего, насквозь демократична. Интеллигентные наши «демократы» (с приставками) понимают слово «демократия», может быть, несколько иначе. Но это не мешает существованию Сербии как страны демократичной в самом реальном смысле, по самой материи. По природе ли — не знаю; возможно, что и демократизм этот взрастила история. Равномерность инородного давления на верхи и на низы очень могла содействовать общенародной спайке. Какому-то уравнению — благодаря которому и черты известной «аристократичности», т. е. своеобразной утонченности, можно встретить одинаково и у сербского мужика, захолустного крестьянина, и у сербского интеллигента или министра. (Так мне говорили, и это похоже на правду.)
В соответствии с демократизмом, — пусть примитивным, но в кровь и плоть проникшим, — находится и сербский национализм. По сравнению с национализмом некоторых других «послевоенных» стран сербский кажется каким-то… скромным. Излишняя самоуверенность, наступательность, злопамятство — черты, которые являются при непривычке к новому положению, иногда при тайном страхе за себя. Ничего этого у Сербии нет. Никаких честолюбивых перехлестов; ни тени «завоевательной» психологии. В новых условиях — только новое, усиленное, внимание, обращенное внутрь.
Ни сербской «демократичности», ни свойств ее крепкого, постоянного, «скромного» национализма, не следует забывать, рассматривая Сербию «монархическую». Монархизм ее тоже особого рода. Будь наши кирилловцы, антониевцы, марковцы и т. д. повнимательнее, они бы такому монархизму не очень радовались. Царь — «гражданин!» (как зовет себя сербский король). Да ведь это звучит едва-едва не царь-товарищ! Впрочем наши легитимисты уверены, что такой русской монархии — не будет.