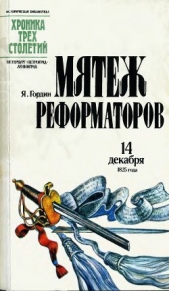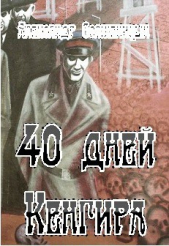7том. Восстание ангелов. Маленький Пьер. Жизнь в цвету. Новеллы. Рабле

7том. Восстание ангелов. Маленький Пьер. Жизнь в цвету. Новеллы. Рабле читать книгу онлайн
В седьмой том собрания сочинений вошли: роман Восстание ангелов (La R?volte des anges, 1914), автобиографические циклы Маленький Пьер (Le Petit Pierre, 1918) и Жизнь в цвету (La Vie en fleur, 1922), новеллы разных лет и произведение, основанное на цикле лекций Рабле (1909).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды, не помню уж, по какому поводу, он рассказал нам историю сатира Марсия, который дерзнул состязаться с Аполлоном в игре на флейте; он был побежден, и бог музыки заживо содрал с него кожу.
— У Марсия, — сказал нам г-н Кротю, — была звериная морда, курносый нос, нечесаные космы, рога на лбу, длинные мохнатые уши, лошадиный хвост и козлиные ноги.
Описание сатира точь-в-точь походило на самого г-на Кротю, это был вылитый его портрет, за исключением разве рогов, козлиных копыт и лошадиного хвоста, наличия которых мы не имели оснований заподозрить у нашего преподавателя. Все же остальное полностью совпадало, даже большие волосатые уши. Судя по приглушенным смешкам, шушуканью и возгласам, которыми было встречено описание Марсия, это сходство поразило весь класс. Весьма возможно, что и я вскрикнул вместе с другими и присоединился к общему смеху; но я тут же погрузился в размышления. Хотя и признавая виновность Марсия, я не мог всецело одобрить поступок Аполлона с его соперником и, по правде говоря, находил наказание чересчур жестоким. Однако, отождествив сатира с г-ном Кротю, я под конец открыл в этой каре глубокий смысл и высшую справедливость. Я набросал в тетрадке портрет Марсия и пытался неумелой рукой сочетать черты сатира и ученого педанта. Рисунок уже начал приобретать выразительность и становился довольно-таки уродливым, как вдруг г-н Кротю заметил его, выхватил у меня листок, разорвал в клочки и в награду за мое искусство наложил на меня какое-то нелепое и обидное наказание. Все было кончено. Я почуял в нем заклятого врага и ответил на его нападки презрительным смехом. Впоследствии я понял, что мне не следовало выражать свою ненависть так откровенно.
С тех пор в его присутствии я держался с презрительным высокомерием, обольщаясь надеждой, будто это больно его задевает. Я выказывал антипатию и отвращение к нему всеми способами, какие подсказывала мне мальчишеская фантазия. По правде говоря, он, вероятно, кое о чем догадывался, и его неприязнь ко мне еще более возросла. С желчной злобой и яростью обрушивался он на мои ошибки и промахи, но в особенности не мог переносить моих успехов. Я не отличался никакими особыми способностями или заслугами, но все же не был лишен сообразительности и порою проявлял признаки ума. Это-то и приводило в бешенство г-на Кротю. Если мне случалось дать верный ответ или в моем сочинении попадалась удачная фраза, — его физиономия злобно кривилась и губы дрожали от гнева. Я изнемогал под тяжестью незаслуженных наказаний. В справедливом негодовании я попытался возмутить против угнетателя весь класс. На переменах я громко бранил и поносил его. Я напоминал товарищам о его придирках, о его безобразии, о его длинных мохнатых ушах. Мальчишки не противоречили мне, никто за него не заступался, но страх перед учителем сковывал им языки: они молчали. Дома, за обедом, я не раз пытался раскрыть перед матушкой всю гнусность г-на Кротю. Увы! На всем свете не было человека, менее способного понять подобные разоблачения. Эта чистая душа, воспитанная на «Телемаке», представляла себе моих учителей в облике древнегреческих мудрецов и наделяла г-на Кротю чертами Ментора [298]. Изгнать из ее воображения этот почтенный образ и заменить его звероподобным рогатым чудовищем было бы не под силу даже самому искусному оратору. Я же взялся за дело крайне неловко, с явным пристрастием, все преувеличивая, приводя неправдоподобные случаи и бездоказательно утверждая, будто г-н Кротю прячет в своих широких коричневых брюках конский хвост. Что касается отца, то ничто не могло поколебать ни глубокого его уважения к ученой иерархии, ни слепого доверия, которое ему внушали люди даже всего менее этого достойные. Не удавалось мне также опорочить г-на Кротю в глазах моей доброй Жюстины. Слушая с недоверием мои жалобы на несправедливость учителя, она обычно говорила:
— Эх, молодой хозяин, кабы вы хорошо учили уроки да не выводили из себя бедного господина учителя, вам и плакаться было бы не на что. Вы бы нахвалиться им не могли.
И она приводила в пример своего брата Сенфорьена, дельного малого и старательного ученика. За это школьный учитель назначил его своим помощником, а господин кюре брал прислуживать во время мессы.
— А вот из-за вашего озорства добрый учитель погубит свою душу, и вы ответите за это перед богом.
Тщетно я приводил самые убедительные доводы. Жюстина ничему не хотела верить, даже тому, что наставника звали Кротю; она говорила, что такого имени и на свете-то нет.
Как-то раз я поведал свои обиды г-же Ларок [299], которая, сидя в штофном кресле, положив ноги на грелку, прилежно вязала синие чулки. Она сочувственно приняла мои жалобы. Но бедная дама начала дряхлеть; она путала прошедшее с настоящим, слегка заговаривалась и странным образом смешивала г-на Кротю с некиим старым профессором красноречия в Гранвиле, который в 1793 году избил линейкой Флоримона Шапделена за то, что тот не хотел кричать: «Да здравствует народ!» Итак, кипевшая во мне ненависть, не находя исхода, душила меня.
Я не считал себя побежденным. Однако нечего и говорить, что в этой борьбе сила была на стороне г-на Кротю.
Как-то весенним утром я проснулся под пение птиц; утренние лучи, прорываясь сквозь щели ставень, ложились узорами на мою постель; я обожал солнечный свет, и мысль о г-не Кротю показалось мне горше смерти. В то утро моя дорогая матушка проверила, как всегда, чисто ли вымыты у меня уши и шея и повторил ли я уроки. Я сохранил совершенно невозмутимый вид, но решение мое было принято. В семь часов тридцать пять минут, как обычно позавтракав хлебом и молоком, зажав под мышкой клеенчатый портфель, на этот раз нарочно не слишком набитый книгами, я спустился с лестницы, направился по берегу серебристой Сены и вышел на улицу, ведущую к коллежу. Потом я вдруг повернул направо и пустился в путь по длинной, до той поры мне незнакомой улице, которая, я был уверен, ведет в неведомые и прекрасные края. Я ощущал такую живую и буйную радость, что даже поделился ею с осликом, впряженным в тележку с овощами, который стоял у тротуара. Напрасно голос, благоразумия рисовал мне всю тяжесть моей вины и все грозящие мне опасности в случае разоблачения, конечно, неминуемого, ибо пропущенные уроки в коллеже отмечались и ставились на вид. Я надеялся выпутаться из беды, рассчитывая на счастливую случайность и на тот благодетельный беспорядок, который, управляя людскими делами, смягчает суровость правосудия.
К тому же я готов был оплатить любой ценой такое огромное и редкостное удовольствие. Словом, я твердо решил прогулять школьные занятия. Эта проделка избавляла меня от Кротю всего лишь на один день; но бывают дни, которые кажутся вечностью и не без основания, потому что забываешь и прошедшее и будущее. На этой старой улице, просыпающейся под солнечными лучами, все улыбалось мне и развлекало меня. Вероятно, окружающие предметы только отражали и излучали мою собственную бурную радость. Однако, не боясь быть обвиненным в восхвалении прошлого в ущерб настоящему, можно с полным правом утверждать, что Париж тех дней был привлекательнее, чем сейчас. Строения были не так высоки, сады встречались чаще. На каждом шагу развесистые деревья склоняли над старыми стенами свои пышные кроны. Дома были очень разные, и каждый имел характерный облик в зависимости от возраста и назначения. Старинные особняки, некогда прекрасные, хранили печальное изящество. В многолюдных кварталах лошади всевозможных пород и мастей катили коляски, дрожки, фургоны, кабриолеты, оживляя вид улицы, а на булыжник стаями слетались воробьи клевать конский навоз. Время от времени желтый омнибус, запряженный серыми в яблоках першеронами, с грохотом проезжал по горбатой мостовой. Границы города в то время еще не расширились до линии укреплений; Париж не стал еще столицей мира; по воле знаменитого префекта еще только начали прокладывать новые широкие магистрали [300], на которых пышным цветом выросли посредственность, однообразие, уродство и скука. Если судить только по центральным кварталам, легко можно подумать, что за два века, считая от регентства Анны Австрийской до середины Второй империи, Париж, несмотря на столько революций, изменился меньше, чем за последние шестьдесят лет, отделяющие нас от того времени, которое мне так приятно вспомнить.