Том 4. Травой не порастет ; Защищая жизнь
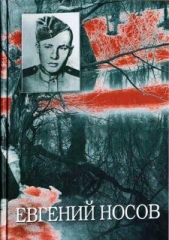
Том 4. Травой не порастет ; Защищая жизнь читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Господи Исуси…— перекрестилась Лукьяновна и, выставив перед собой ведро и переставляя его с клавиши на клавишу, этаким замысловатым манером проскондыбала на ту сторону. Я подождал, пока она наконец перебралась, после чего и сам с замиранием души одолел это зыбкое сооружение, не терпевшее никакой размеренности и тут же начинавшее раскачиваться из стороны в сторону.
Ступив на твердь противоположного берега, Лукьяновна присела на опрокинутое ведро и задышливо завозмущалась:
— А ить был же тут езжий мосток… Ан весь разворовали. И даже… сваи повыдергивали… Это еще при Горбачеве… когда начали все перестраивать… Навезли было плит, хотели поставить мост из бетону, дак Хотей расхотел, а плиты тоже порастаскали… Заместо моста повесили эту люльку — голова кругом от нее, опосля никак не отдышишься, хоть капли с собой носи… Оно и не глыбко, да один тут, Гаврюшка, что от меня через двор, спьяну свалился да и утоп. Нес на горбу тумбочку под челевизер, тумбочка и перевесила, он мордой в ил и угораздил. Утром люди пошли, глядят, а вороны уже Гаврюшкин зад долбят…
Выровняв дыхание. Лукьяновна продолжала:
— Трактор, дак тот прямо через речку прет, а машинам не стало ходу. Со мной ить, милай, из-за этого тоже оказия была…
— Что за оказия?
— А вот пока сижу — расскажу.
Лукьяновна сдвинула на затылок толстый шерстяной платок, обнажив серые свалявшиеся волосы.
Пережидая молчание Лукьяновны, я поглядел окрест, радуясь тихому, безветренному теплу и какому-то воцарившемуся благоденствию, сопровождаемому звоном ухналевского колокола. Здесь, на лужку, над доцветающими клеверами разомлело погудывали медлительные шмели, не по сезону одетые в теплые плюшевые шубки. Над темной, кофейной водой ломко промелькивала лимонно-желтая бабочка, невесть откуда и куда летевшая и невольно заставлявшая переживать, что не долетит при этом своем робком и неумелом полете или вот-вот схватит ее затаившийся под лозами большеротый голавль. А на узволоке, на заречных выселках, куда мы шли, под темными купами ракит, приютивших несколько разрозненных дворов, учились петь молодые тонкоголосые петушки. Оттуда же тянуло яблочной прелью, будто где-то там пролили на землю старое закисшее вино.
Лукьяновна поворотилась на своем ведерке лицом к выселкам:
— Вон, вишь, дом на краю починка?
— Куда глядеть — направо или налево? — не понял я.
— Налево который.
— А который налево — он без крыши…
— Ну да, ну да…— закивала Лукьяновна.— Он самый.
— И окна пустые, без рам… Нежилой, что ли?
— Как это нежилой? — обернулась Лукьяновна.— Я в ём и живу.
— Он что, горел, поди: бревна черные?
— Я вот и рассказываю…— Она снова повернулась на ведерке, будто на винтовом сиденье.— Ну, милай, живу я в этом доме, годки бегут… Схоронила матушку, одна осталась… Вот те, приезжает дочь Сима. Она тади в Хрустальном Гусе жила, работала главным булгактером. Отворяет дверь и еще с чемоданом в руке сразу в слезы: «Мама, пропадаю, выручай!» — «Что такое?» — «Сильно я растратилась, большой за мной недочет. Вот приехала, спасай чем можешь. А не то — десять лет мне дадут».— «Да чем же я тебя спасу, говорю я ей, шутки, что ли?» — «Ой, да какие шутки, какие шутки? Я дома уже все продала, что можно, и все равно не хватает».— «Да я-то что продам — ничего нетути». А она мне: «Давай, мама, продадим часть дома. Ты себе кухоньку с печкой оставь, тебе главное, чтоб печка, а на остальное покупателей поищем…» Жалко мне дочку стало: а ну и вправду посадят, да и продала я две чистых комнаты проезжим цыганам. Как раз зима надвигалась, они хорошие деньги дали.
Все получилось удачливо. Сима уехала в Гусь расплачиваться, а днями вот они — новые хозяева в двух кибитках. Сколь их понаехало, аж в глазах рябко… Мал мала меньше, и все босые да чернявые, как таракашки. Кто чугунки волокет, кто подушки. Тут же из окна сделали себе отдельную дверь, а в другое окно вывели трубу от буржуйки. Всю неделю праздновали новоселье, одни приезжали, другие уезжали… За стенкой дни и ночи бил барабан, бубны звякали, стекла в окне дребезжали. Однова просыпаюсь — чтой-то дымом пахнет? Я бы и ничего, да прежняя моя кошка вот как забегала — то под кровать, то на печку, места не находит. Выбежала я на улицу, гляжу, цыгане тоже повыскакивали, галдят, руками машут, а из их окон красные петухи выпрыгивают… Хорошо, добрые люди в пожарку сообщили. У нас, в Ухналях, прежде своя пожарная машина была. Машина-то была, а моста уже не было. Пока кругалём объезжали, уже и крыша занялась. Так что от всего дома одна моя каморка и осталась. Успели отбить ее от огня.
— А что же цыгане?
— И-и, милай! Запрягли лошадей — и с концами!
— И что, разве дом уже нельзя поправить?
— Да где же я возьму столько капиталу?! — Лукьяновна в сердцах опять насунула на голову платок и, кряхтя, упершись руками в коленки, тяжело поднялась со своей сижи.— Это ж сколь надоть денег-то? Крышу покрыть, стены от горелого образить, да полы с потолками, а еще рамы на окна… Теперь гвозди небось сто рублей штука, а у меня пенсия с гулькин носок, да и ту не всяк месяц дают…
— Да-а… Ну а власть? Разве ее не коробит пожарище? Должна бы помочь…
— Какая власть, мила-ай! — Лукьяновна воздела кверху пустое ведро.— Теперь в Ухналях нетути никакой власти. На том месте замок повешен. Уж и поржавел, поди…
Она побрела на узволок едва приметной тропкой, валко раскачиваясь при каждом переступе шлепанцев. Я пошел следом, все еще прикидывая всякие ходы что-либо сделать.
— Ну хорошо, а дочь? — сказал я громко и убежденно.— Разве она не обещала помочь? Было бы справедливо… Ведь ты же ей помогла?
— Ничего я не помогла. Все было впустую. И дом извела зазря, и деньги цыганские суда не упредили,— задышливо отозвалась Лукьяновна.— А теперь и самой Серафимы нету…
— Как — нету?
— А так вот… Признали Симу виноватой… Дак она и сама не отказывалась, виноватой была… Деньги у нее взяли, а скостили ей только половину: не десять, как она боялась, а дали пять годов лагерей… Валила лес на Урале. А потом поставили ее учетчицей. Все б ничего, можно б и отсидеть, да вот придавило ее деревом. Сук аж насквозь пронизал…
— Да как же так?!
— Писала мне одна, которая отбывала с ними, будто свои же подружки и сотворили. Кому-то не так учла… Нету теперь Серафимы…
— Да, печально,— посочувствовал я.— Наверное, семья осталась?
— А-а! — махнула рукой Лукьяновна, и в ее голосе проглянула какая-то бесшабашность.— Слава богу, безмужняя она! Налегке жила, как и я.
— Что так?
— Не выпало ей короля. Одни только пустые валеты. Ну и то ладно: некому печалиться. Вот Симина дочка первая в нашем роду расписанная. Все по закону. И свадьба была: она вся в белом, он — в черном.
— Бывает в Ухналях? Навещает бабку?
— Не-е! Ей до меня далеко! Гдей-то в Африке живет. Вышла за негра, с ним и уехала. Не назову тебе ту землю. Запамятовала. Писала как-то Симе, что когда в Гусе зима, то у них там лето, а когда в Гусе лето, то у них дожди непросветные. Обезьян полно, прямо по базару бегают, из кошелок воруют. А где это — не могу сказать.
Дом пострадал больше всего с фасада, будто обгорело его лицо. На выселковую улицу, на луг и речку, на все Ухнали из обугленного ребрастого сруба пусто глядели проемы окон, сквозь которые виделась поросль молодых кленов и безоблачная синева. Перед обгорелым срубом в самоделковом палисадничке, забранном подручным материалом — лотками от старой бочки, полосками жестяной выколотки и еще чем-то ненужным,— в предчувствии близкой осени скудно, устало доцветали оранжевые коготки, уже начавшие жухнуть и осыпаться блеклыми семенами, и вправду похожими на выпущенные кошачьи когти. Меж коготков поднималось несколько кленовых прутиков, уже достигших верхнего края руин и посаженных Лукьяновной, должно, для того, чтобы хоть чем-то сокрыть уличное уродство ее жилья.
Уцелевшая часть дома, кое-как прикрытая толем, с долгой оголившейся трубой, все же выглядела не так разорно, как представлялось. Стены были обмазаны глиной и побелены известью, единственное оконце, выходившее во двор, окрашено голубеньким, так же как и входная дверь, перед которой на тесовом крыльце был постелен круглый веревочный обтирничек для ног. Под толевой застрехой, на белой глади стены медовели ожерелки нарезанных яблок, а на подоконнике под сенью колючего цветка алоэ калачиком самозабвенно спал кот, укрывший морду от мух полосатым хвостом.

























