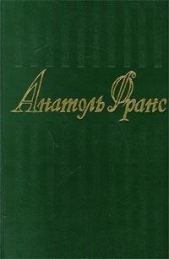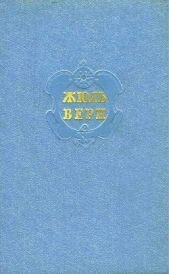Том 4. Современная история

Том 4. Современная история читать книгу онлайн
В четвертый том собрания сочинений вошло произведение «Современная история» («Histoire Contemporaine») — историческая хроника с философским освещением событий. Как историк современности, Франс обнаруживает проницательность и беспристрастие ученого изыскателя наряду с тонкой иронией скептика, знающего цену человеческим чувствам и начинаниям.
Вымышленная фабула переплетается в этих романах с действительными общественными событиями, с изображением избирательной агитации, интриг провинциальной бюрократии, инцидентов процесса Дрейфуса, уличных манифестаций. Наряду с этим описываются научные изыскания и отвлеченные теории кабинетного ученого, неурядицы в его домашней жизни, измена жены, психология озадаченного и несколько близорукого в жизненных делах мыслителя.
В центре событий, чередующихся в романах этой серии, стоит одно и то же лицо — ученый историк Бержере, воплощающий философский идеал автора: снисходительно-скептическое отношение к действительности, ироническую невозмутимость в суждениях о поступках окружающих лиц.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уверены ли вы, что госпожа де Громанс настолько близко знакома с министром, чтобы обращаться к нему… с просьбами о… о таком деле? Она, видите ли, никогда не говорила мне о Луайе.
— Вероятно, потому, что у нее есть другие темы для беседы с вами,— возразил маленький барон.— Я не говорю, что она бредит этим Луайе, но она считает его добрым и неглупым старикашкой. Они познакомились три года тому назад на трибуне при освящении статуи Жанны д’Арк. Луайе старается быть приятным госпоже де Громанс. Уверяю вас, что он не так уж противен. Когда он облачается в новый сюртук, он похож на старого учителя фехтования, удалившегося на покой в деревню. Ей вполне удобно прийти к нему: он будет с ней мил… и уж, конечно, он не опасен.
— Значит,— сказал Гюстав,— она должна попросить его, чтобы он назначил Гитреля епископом?
— Да.
— Епископом этого, как его?..
— Епископом Туркуэна,— ответил Эрнест де Бонмон.— Лучше я запишу вам на клочке бумаги.
И, взяв с ближайшего столика карточку фабриканта машин «Королева лилипутов», он написал золотым карандашиком: «Назначить Гитреля епископом туркуэнским».
Гюстав взял карточку. Поручение, казавшееся ему сперва таким странным и необычайным, он находил теперь простым и естественным. Он мысленно освоился с ним. И, кладя карточку в карман, он сказал Бонмону самым непринужденным тоном:
— Гитреля — епископом туркуэнским, отлично. Можете рассчитывать на меня.
Таким образом оправдывались слова г-жи Делион, которая имела обыкновение отзываться о своем сыне так: «Гюстав заучивает с трудом, но то, что он заучил, он помнит. Это, пожалуй, даже преимущество».
— Будьте спокойны,— серьезно прибавил Эрнест,— я ручаюсь вам, что из Гитреля выйдет очень хороший епископ.
— Тем лучше,— отвечал Гюстав,— потому что…
Он не договорил своей мысли.
Тем временем они подошли к выходу.
— Я пробуду в Париже до конца недели,— сказал Бонмон.— Заходите ко мне и держите меня в курсе дела. Времени терять нельзя: назначения будут подписаны на днях. Нам еще надо потолковать об авто.
Под навесом подъезда, где торжественно развевались знамена, он пожал Гюставу руку и, удерживая ее в своей, произнес:
— Предупреждаю вас об одном, дорогой Делион, и это очень важно. Никто не должен — слышите? — никто не должен знать, что госпожа де Громанс обратится к Луайе по вашей просьбе. Ясно?
— Ясно,— отвечал Гюстав, усердно пожимая руку своего друга.
В тот же вечер, в восемь часов, зайдя ненадолго к матери, с которой видался редко, но поддерживал хорошие отношения, Эрнест де Бонмон застал ее в будуаре, где она заканчивала туалет.
Пока горничная ее причесывала, она отвела глаза от зеркала и, взглянув на сына, сказала:
— У тебя плохой вид!
С некоторых пор здоровье Эрнеста тревожило ее. Papá был для нее причиной более тяжелых горестей, но и о сыне она тоже беспокоилась.
— А твое здоровье, мама?
— Превосходно.
— Вижу.
— Знаешь ли ты, что у твоего дяди Вальштейна был легкий удар?
— Что ж тут удивительного! Он кутит. В его возрасте это нездорово.
— Твой дядя еще не стар. Ему пятьдесят два года.
— Пятьдесят два года — это уже не отрочество. Кстати, как Бресе?
— Бресе? А что?
— Поблагодарили они тебя за дароносицу?
— Они прислали мне несколько строк на визитной карточке.
— Не густо.
— А чего ты, собственно, ждал, мой мальчик?
Она встала и, чтоб оправить в волосах бриллиантовую ветку, подняла над головой обнаженные руки, которые образовали как бы две ослепительные ручки у амфоры ее очаровательно округлого тела. Под гроздьями прозрачных плодов, пропускавших электрический свет, ее плечи сверкали, и по их золотистой белизне сбегали к груди тонкие голубые жилки. Щеки ее были нарумянены, губы подкрашены. Но лицо, отражавшее любовные вожделения и здоровье, сохраняло молодость, а пышность тела скрадывала складки на шее, которые могли бы выдать возраст.
Эрнест де Бонмон внимательно посмотрел на мать и вдруг сказал:
— А что, мама, если бы и ты тоже зашла к Луайе замолвить слово за аббата Гитреля?
Госпожа де Бонмон, которая предпочла всем другим Рауля Марсьена и любила его нежной любовью, наконец-то, вот уже несколько недель, могла гордиться своим избранником и считать себя счастливой. Действительно, в мировом порядке произошла чудесная перемена. Рауль, некогда презираемый или вызывавший опасения во всех слоях общества, удаленный из полка, отвергнутый друзьями, поссорившийся с семьей, выгнанный из клуба, известный во всех судах, где нагромождались против него обвинения в мошенничестве, внезапно оказался омытым от всех позорных пятен и очищенным от всякой скверны.
Нельзя сказать, что его перестали считать негодяем, но при тогдашнем состоянии «Дела» было весьма важно, чтобы Рауль Марсьен (быть может, фигурировавший в истории под другим именем, чем в «Аметистовом перстне») оказался чист, а еврей виновен. Не вдаваясь здесь в объяснения, которых у меня не просят, сообщу только, что обелить Рауля Марсьена было крайне необходимо. Военные суды выносили в связи с этим одно решение за другим. И публично и втихомолку министры, депутаты, сенаторы утверждали, что безопасность, могущество, слава Франции зависят от невиновности этого субъекта. Все погибло бы, если бы Марсьен оказался под подозрением. А потому все добрые граждане лезли из кожи вон, чтобы восстановить его честь, связанную с национальными интересами. Г-жа де Бонмон, видя, что ее друг внезапно стал примером и образцом для французов, испытывала радость, смешанную с тревогой. Она была создана для скромных утех и интимных наслаждений, и эта популярность удивляла ее, ей было не по себе. В обществе Рауля она испытывала утомление, словно безвыходно жила в каком-то лифте.
Доказательства уважения, получаемые им, удивляли простодушную Елизавету своим количеством и высокопарностью. Это были сплошные поздравления, лестные заверения, свидетельства о добропорядочности, приветствия, похвалы. Они притекали из городов и сел, от всех утвержденных корпораций и всех национальных обществ. Они притекали из судебных учреждений, из казарм, из архиепископств, из мэрий, префектур, замков. Они били ключом из мостовых в дни уличных волнений, они звенели в фанфарах гимнастов, возвращавшихся домой при свете факелов. Теперь честь его сверкала, честь его горела огнями над всей страной, как горит в ночном небе грандиозный орденский знак праздничной иллюминации. Во Дворце правосудия, в Мулен-Руж толпа провожала его овациями. И особы королевской семьи добивались возможности пожать ему руку.
Тем не менее Рауль не был спокоен. Он продолжал быть мрачным и буйным в маленькой, обитой небесно-голубым шелком квартирке на антресолях, служившей приютом для его любовных встреч с г-жой де Бонмон. Хотя даже и здесь вместе с городским шумом до его слуха доходили восхваления и восторженные клики, а грохот колес омнибуса, сотрясавший стены, и пронзительный рожок трамвая напоминали ему, что в этот момент по улице катят защитники и хранители его чести, он все же оставался погруженным в горькие и мрачные думы. Он носился с зловещими замыслами. Хмуря брови и скрежеща зубами, он бормотал проклятия, он пережевывал, как матрос жвачку, свои обычные угрозы: «Негодяи, подлецы! Я им распорю брюхо!..» Как это ни странно, но он почти не слышал славословий целой толпы людей, зато ему мерещилось, что перед ним стоят и угрожают ему его немногочисленные обвинители, которых все уже считали рассеявшимися, уничтоженными, поверженными в прах,— и его желтые глаза расширялись от ужаса. То была всего лишь горсточка людей, но он чувствовал, что они не выпустят добычи.
Его бешенство повергало в уныние ласковую Елизавету, которая подстерегала поцелуи и слова любви на его устах, а вместо этого только и слышала, как они извергают хриплые крики ненависти и мщения. И она была тем более удивлена и смущена, что угрозы смертоубийства, исходившие от ее возлюбленного, относились без разбора и к друзьям и к недругам. Ибо, когда он грозился «распороть брюхо», он не проводил особого различия между своими защитниками и своими противниками. Его мысль, гораздо более обширная, охватывала всю родину и все человечество.