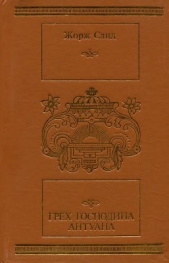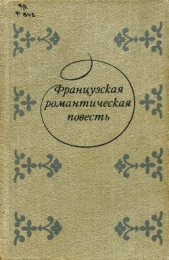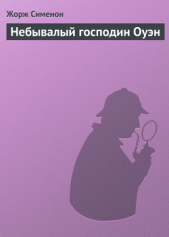Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер
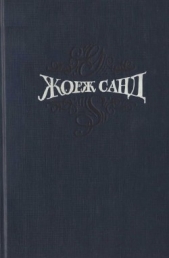
Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер читать книгу онлайн
Герой «Странствующего подмастерья» — ремесленник, представитель всех неимущих тружеников. В романе делается попытка найти способы устранения несправедливости, когда тяжелый подневольный труд убивает талант и творческое начало в людях. В «Маркизе де Вильмере» изображаются обитатели аристократического Сен-Жерменского предместья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пусть бы даже он разрезал на куски мое сердце, — ответил Пьер, — он не сможет убить моей любви к вам.
— А если так, — сказала Изольда, вся озаряясь светлой радостью и стыдливо зардевшись, — я иду к дедушке. Когда я хочу чего-нибудь, я выполняю свое желание немедленно. Итак, я иду к дедушке и все ему сейчас расскажу. До свидания, Пьер, до завтра, ведь дело это не шуточное, и дедушке, быть может, понадобится ночь, чтобы все обдумать.
— Завтра? Завтра? — в ужасе воскликнул Пьер. — Разве это завтра в самом деле наступит? Как донести мне до завтра двойное бремя восторга и страха? Нет, нет, погодите, не говорите еще со своим дедушкой! Дайте мне хотя бы до утра прожить с мыслью о вашей доброте ко мне (Пьер не посмел сказать: «любви»). Мой разум еще не в силах взглянуть в лицо этому завтра, которое вы сулите мне, — в нем есть для меня нечто призрачное, и оно вызывает у меня страх. Да, я счастлив, но сердце мое сжимается — это ощущение счастья так огромно, что похоже на тоску. В нем есть что-то торжественное, мучительное, пьянящее. Как будто вы собираетесь ради меня идти на смерть… Дайте же мне подумать, вы видите, я ничего не понимаю, и в этом диком смятении чувств, которое вы подняли во мне, ясным для меня остается только одно: вы любите меня, вы меня любите. Вы! Вы! Боже мой, меня! Да возможно ли это? Может быть, я болен и это бред? Безумие?..
— Я не хочу, чтобы у вас было время для размышлений, Пьер, я боюсь этого. Я уже обдумала все за вас. Принимая свое решение, я предусмотрела все его последствия — ни одно из них не страшит меня. Не нужно обладать особым мужеством, чтобы пренебречь мнением света, если речь идет не об эффектной выходке, а об акте убеждения. Перед такого рода решением свет бессилен. А что до вас, Пьер, то тут я заранее знаю, какие сомнения начнут терзать вас, как только вы вспомните, что я богата, а вы бедны. Но я твердо знаю также, что отвечу я вам на ваши сомнения. Я предвижу все ваши возражения, все доводы и уверена, что сумею противостоять им. Ибо ваша гордость, Пьер, может быть, дороже мне, чем вам самому, и я скорей умерла бы, нежели решилась толкнуть вас на поступки, противные вашей совести.
Долго еще разговаривали они. Пьер с жадностью внимал речам Изольды, но сам больше молчал. Ошеломленный этим невероятным, нежданно нагрянувшим на него счастьем, он в своем смятении не в состоянии был еще достаточно трезво оценить идею брака, столь противоречащего всем представлениям и обычаям общества, основанного на социальном неравенстве. Ему необходимо было подвергнуть ее суду своей совести, но пока он был весь во власти чувств; мужество этой восторженной девушки, готовой во имя идеи преодолеть все препятствия, восхищало его, наполняло признательностью к ней. К тому же им так много нужно было сказать друг другу, так много оказалось у них общих воспоминаний, что они никак не могли наговориться. Так сладостно было вновь и вновь возвращаться к тому времени, когда они еще таили в себе свою любовь, воскрешать в памяти малейшие подробности тех дней, искать и находить объяснения каждому слову, каждому поступку. Все пережитое тогда переживалось теперь сызнова. Только тогда все это происходило в жизни, а теперь словно в раю. Чувство, которое они испытывали, предаваясь вдвоем этим воспоминаниям, еще более сладостным благодаря полной откровенности, прежде им недоступной, было сродни тому, какое испытывает, должно быть, душа, когда, сподобившись райского блаженства, она смутно припоминает, что жила уже однажды, но та, земная, жизнь была не столь прекрасной и полна была неутоленных желаний, которых ныне она уже не знает.
В то время как они беседовали таким образом, уносясь в мир своих чувств и совершенно позабыв о времени, граф де Вильпрё разговаривал с Коринфцем. Перед этим он еще раз прошел к племяннице. Жозефина была измучена обуревавшими ее сомнениями. Ей стыдно было прямо признаться графу, что то глубокое чувство, которое он лукаво ей приписывал, не более как прихоть, плод распаленной чтением фантазии, что этот роман, начатый ею с безрассудностью пансионерки, поддерживается лишь жаждой наслаждений и ныне близится уже к своему концу, ибо страх огласки и тщеславие сильнее ее чувств. Будь у Коринфца имя, пользуйся он известностью, он, пожалуй, мог бы даже одержать верх над каким-нибудь скромным дворянином. Но простой столяр, подмастерье… Нет слов, он был талантлив, ему предстояло учиться в Риме, но пока что о нем никто решительно не знал и неизвестно еще было, действительно ли он прославится, не поздно ли ему уже учиться и оправдает ли он надежды, которые на него возлагают… Все зависело здесь от случая, а Жозефина не обладала ни достаточной верой в своего избранника, ни достаточным мужеством, чтоб отважиться ставить на эту карту в той азартной игре, которую называют жизнью общества. Поэтому она была страшно напугана лицемерными советами графа, и когда тот направился в кабинет, намереваясь послать за Коринфцем, она бросилась вслед за дядей, умоляя его сначала выслушать ее. Она солгала, что только сейчас узнала о связи Коринфца с Савиньеной, и это обстоятельство якобы молниеносно исцелило ее от любви к нему, и теперь она немедленно хочет порвать с ним и просить дядю помочь ей в этом. Некоторая доля правды здесь была. Ничто в глазах Жозефины не способно было до такой степени лишить Коринфца его поэтического ореола, как эта прежняя любовь к какой-то «трактирщице». Мысль, что она, маркиза, унизилась до того, что стала ее преемницей, была просто невыносима. Низкое происхождение любовника казалось ей еще позорнее с тех пор, как она поняла, что он не стыдится своей прежней любви и не оказался достаточно подлым, чтобы предать память о ней.
И граф сжалился над Жозефиной. Он перестал играть комедию и заговорил с ней весьма сурово. Он посоветовал ей не повторять подобных ошибок и не выбирать себе впредь любовников из столь низкого сословия.
— Полагаю, это послужит вам некоторым уроком, — заявил он ей под конец, — и вы поймете, что хотя в принципе народ достоин всяческой любви и уважения, не следует, однако, производить ради этого такого рода эксперименты, на которые решились вы. Народ велик и прекрасен, если рассматривать его как некое единое целое, но отдельный простолюдин, взятый сам по себе, — существо жалкое и ничтожное. Такому человеку необходимо последовательно, ступень за ступенью, пройти всю иерархическую лестницу нашего общества, чтобы по-настоящему облагородиться и очиститься от той грязи, из которой он вышел. Только с превеликим трудом — и такие люди достойны лишь уважения! — добиваются признания и славы отдельные представители народа, которые уже ныне успешно соперничают с теми, кому все было дано от рождения и кому, быть может, со временем предстоит уступить всем этим людям поле боя. Вы, племянница, вообразили, будто ваши прелестные глазки способны вызвать в этом юноше метаморфозу, для свершения которой необходимо еще лет двадцать упорного труда и борьбы (да и то неизвестно, произойдет ли она еще). А он не понял ваших благих намерений и преспокойно вернулся к своей Савиньене. Что ж, это только лишний раз доказывает, что рожденному в трущобах не так-то легко подняться до истинно благородных понятий. Путь этот куда более долог, нежели путь от столярного верстака до постели маркизы.
Жозефина смиренно выслушала этот цинический и язвительный выговор. Собственные ее представления не поднимались выше ограниченного вольнодумства графа, и она не улавливала противоречий в его поведении и речах. Все, что он говорил, казалось ей непреложным. Оскорбительный тон дяди огорчил ее, но не возмутил. Она униженно просила о прощении и счастлива была, когда ее простили. Она вышла из той среды, где дворянство, как бы его там ни ненавидели и ни высмеивали, все же пользуется еще огромным влиянием.
С Коринфцем граф пытался сначала обойтись как с мальчишкой, думая запугать его. Он казался ему всегда таким «милым», что трудно было заподозрить, что у него такой гордый и вспыльчивый характер. Но когда юноша с первых же слов заявил ему, что считает себя человеком свободным и никому не намерен подчиняться, что его могут выгнать из мастерской и замка, но никто не имеет права выслать его из деревни и из этих мест, что он не признает за графом никаких прав на себя и маркизу, старый дипломат вынужден был признать, что он допустил оплошность: ни угрозы, ни страх потерять покровительство и лишиться его благодеяний не сломят гордость этого юноши. Тогда он переменил тактику, перешел на ласковый тон, стал по-отечески увещевать его, посетовал на слабость и суетность Жозефины и предложил Амори либо жениться на Савиньене, либо поехать в Италию изучать скульптуру. Коринфец не мог простить ему угроз, с которых тот начал, он гордо вышел из его кабинета, не высказав своего окончательного решения. Но утро вечера мудренее, а перспектива увидеть Италию была так заманчива, что уже назавтра он решил сменить гнев на милость. Граф в этом не сомневался — он видел, как загорелись глаза молодого художника при одном только слове «Рим», и был уверен, что никакая любовь не помешает ему следовать своему призванию.