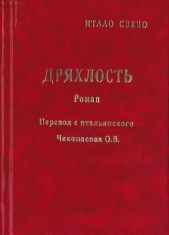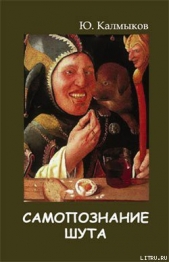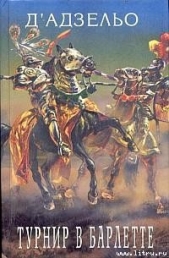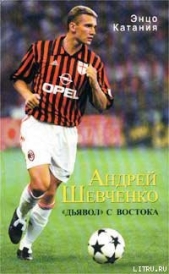Самопознание Дзено

Самопознание Дзено читать книгу онлайн
Один из восемнадцати детей коммерсанта Франческо Шмица, писатель принадлежал от рождения к миру австро-итальянской буржуазии Триеста, столь ярко изображенной в «Самопознании Дзено». Он воспринимался именно как мир, а не мирок; его горизонты казались чрезвычайно широкими благодаря широте торговых связей международного порта; в нем чтились традиции деловой предприимчивости, коммерческой добропорядочности, солидности… Это был тот самый мир, который Стефан Цвейг назвал в своих воспоминаниях «миром надежности», мир, где идеалом был «солидный — любимое слово тех времен — предприниматель с независимым капиталом», «ни разу не видевший своего имени на векселе или долговом обязательстве» и в гроссбухах своего банка всегда «ставивший его только в графе „приход"», что и составляло «гордость всей его жизни».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хочу записать здесь также — хотя ни в моей истории, ни в истории Гуидо это не сыграло никакой роли, — что несколько дней спустя меня остановил на улице болтливый маклер, с которым мы имели дело во время купоросных событий, и, глядя на меня снизу вверх, словно его принуждал к тому его малый рост, который он умел еще больше уменьшить, слегка приседая, сказал мне иронически:
— Говорят, вы заключили еще несколько сделок столь же выгодных, как и та, с купоросом?
И, увидев, как я побледнел, пожал мне руку и добавил:
— Что касается меня, то я от души желаю вам удачи. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь!
И ушел. Думаю, что наши дела стали ему известны от дочки, которая училась в одном классе лицея с маленькой Анной. Я не рассказал Гуидо об этой нескромности со стороны маклера. Моей главной задачей было оберегать его от ненужных волнений.
Я был немало удивлен тем, что Гуидо не сделал никаких распоряжений насчет Кармен: ведь я знал, что он определенно обещал жене ее уволить. Я полагал, что, как и в первый раз, Ада вернется домой через несколько месяцев. Но она, не заезжая в Триест, сразу отправилась на дачу на Лаго Маджоре, куда некоторое время спустя Гуидо отвез ей детей.
Вернувшись из этой поездки — уж не знаю, сам ли он вспомнил о своем обещании, или Ада ему напомнила, — он спросил, нельзя ли пристроить Кармен в мою контору, то есть к Оливи. Я знал, что там все места заняты, но так как Гуидо меня очень просил, согласился поговорить с управляющим. По счастливому совпадению какой-то наш служащий как раз на днях должен был уволиться. Однако его жалованье было меньше того, что получала последние месяцы Кармен от щедрот Гуидо, оплачивавшего свою любовницу по счету «Общие расходы».
Старый Оливи пожелал узнать, что умеет делать Кармен, и, так как я дал ей наилучшие рекомендации, предложил принять ее на тех же условиях, на которых служил у нас уволившийся. Я сообщил это Гуидо, и тот, опечалившись, обескураженно почесал в затылке.
— Как же мы можем предлагать ей жалованье меньше того, что она получает! А нельзя заставить Оливи назначить ей такое же?
Я знал, что это невозможно, и потом, у Оливи не было в обычае, как у нас, считать себя женатым на своих секретаршах. Едва он заметит, что Кармен заслуживает на крону меньше назначенного ей жалованья, как он тут же без всякой жалости вычтет из него эту крону. В конце концов дело осталось в таком виде: Оливи так никогда и не получил от меня решительного ответа и ни разу им не поинтересовался, а Кармен продолжала поводить своими прекрасными очами в нашей конторе.
У нас с Адой была теперь общая тайна, которая продолжала сохранять свою значительность именно потому, что оставалась тайной. Ада усердно переписывалась с Аугустой, но ни разу не упомянула ни о нашем объяснении, ни даже о том, что поручила мне Гуидо. И я тоже молчал. Однажды Аугуста показала мне ее письмо, которое касалось также и женя. Сначала она спрашивала, что у меня нового, а потом взывала к моей доброте, умоляя, чтобы я сообщил ей, как идут дела у Гуидо. Услышав, что она обращается ко мне, я встревожился, но когда понял, что, как и всегда, она обращается ко мне, чтобы получить сведения о Гуидо, успокоился. Я по-прежнему не был обязан ни на что осмеливаться.
С согласия Аугусты и ничего не говоря Гуидо, я написал ей сам. Я сел за стол, собираясь написать чисто деловое письмо, и первым делом сообщил, что очень доволен тем, как Гуидо сейчас ведет свои дела: он стал усерден и благоразумен.
Это была правда, во всяком случае, именно в тот день я был им доволен, так как он сумел заработать, продав товар, много месяцев лежавший на складе. Верно было также и то, что он демонстрировал теперь большее усердие, хотя по-прежнему каждую неделю ездил на охоту или на рыбную ловлю. Я с готовностью преувеличивал свои похвалы, так как считал, что таким образом способствую выздоровлению Ады.
Я перечел письмо, но остался им не удовлетворен. Чего-то в нем не хватало. Ведь Ада обратилась ко мне, и, конечно же, ей было интересно узнать и о моей жизни. Было бы просто невежливо не сообщить ей ничего о себе. И мало-помалу — я помню это так ясно, словно все это происходило только что, — я почувствовал такую растерянность, как будто сидел не у себя за столом, а с Адой в той маленькой темной комнате. Крепко ли должен я был пожать протянутую мне ручку?
Когда письмо было написано, мне пришлось его переписать, потому что с пера у меня сорвалось несколько компрометирующих слов: я мечтал увидеть ее снова и надеялся, что к ней вернулись ее красота и здоровье. Это было все равно, что обнять за талию женщину, которая всего-навсего протянула мне руку. Мой долг заключался только в том, чтобы пожать эту ручку, пожать ее нежным и долгим пожатием, которое должно было означать, что я понимаю все, в том числе и то, что никогда не будет произнесено вслух.
Я не буду пересказывать фразы, которые я перебрал в поисках той единственной, что могла заменить нежное и долгое многозначительное рукопожатие; расскажу только о том, что было написано. Я много говорил о надвигающейся старости. Я ни одной минуты не мог прожить спокойно, то есть не старея. При каждом обороте, который совершала кровь в моем теле, в моих костях и венах откладывалось нечто, что означало старение. Каждое утро, когда я просыпался, мир становился еще более серым, чем накануне, и я этого не замечал, потому что все было окрашено в этот цвет: не было в этом новом дне ни одного мазка краски, принадлежавшего вчерашнему, иначе я бы ее заметил и сожаление о том, что вчерашний день ушел безвозвратно, привело бы меня в отчаяние.
Прекрасно помню, что, отсылая это письмо, я чувствовал глубокое удовлетворение. Я нисколько не скомпрометировал себя этими словами, но полагал, что если Ада чувствует так же, как я, она сумеет понять это любовное рукопожатие. Не нужно было быть очень проницательной, чтобы догадаться, что весь этот длинный пассаж о старости выражает всего лишь мой страх перед временем, которое так быстро увлекало меня за собой, что любовь могла не успеть меня догнать. Я как бы взывал к любви: «Приди! О, приди!» — хотя, в сущности, я вовсе не уверен в том, что мне в самом деле так уж была нужна эта любовь. Однако не могу утверждать и обратного, поскольку помню, что написал я ей именно так.
Я сделал для Аугусты копию этого письма, исключив из него рассуждение о старости. Она бы ничего, конечно, не поняла, но осторожность никогда не помешает. Я мог бы покраснеть, почувствовав на себе ее взгляд в тот момент, когда я пожимал руку ее сестре. Да, да! Я еще не потерял способности краснеть! И я на самом деле покраснел, когда получил от Ады коротенькое благодарственное письмо, в котором она ни словом не упоминала о моих рассуждениях насчет старости. Мне казалось, что этим она скомпрометировала себя куда больше, чем когда-либо компрометировал себя с ней я. Она не вырывала своей ручки из моей руки. Она позволяла ей безвольно покоиться в моей, а у женщин безвольность — это способ выражения согласия.
Несколько дней спустя после того, как я написал это письмо, я обнаружил, что Гуидо начал играть на бирже. Я узнал это благодаря нескромности маклера Нилини.
С Нилини мы были знакомы много лет, так как когда-то учились в одном классе. Но ему пришлось бросить лицей, чтобы поступить на службу в контору своего дяди. Потом мы продолжали изредка видеться, и помню, что различие наших судеб установило между нами отношения подчинения и превосходства. В ту пору он всегда здоровался со мной первым и искал случая подойти ко мне. Я считал это вполне естественным, и, наоборот, мне показалось уже гораздо менее объяснимым, когда начиная с какого-то времени, которое я не могу обозначить точно, он сделался со мной очень заносчивым. Он перестал здороваться первым и едва отвечал на мое приветствие. Это меня немного обеспокоило, потому что кожа у меня нежная и оцарапать ее очень легко. Но что я мог поделать? Возможно, он как-нибудь увидел меня в конторе Гуидо и, решив, что я занимаю там место служащего, почувствовал ко мне презрение? Или — что столь же вероятно — умер его дядя, и, сделавшись теперь независимым биржевым маклером, он проникся уважением к самому себе? В маленьком мирке, в котором мы все жили, подобные отношения не редкость. Не сделав никому ничего плохого, ты вдруг в один прекрасный день замечаешь, что кто-то смотрит на тебя враждебно и с презрением.