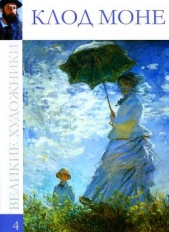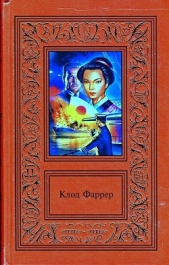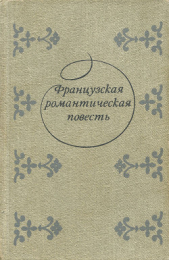Творчество

Творчество читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ах, его прежние полотна, — снова начал Бонгран, — работы с Бурбонской набережной, помните? Удивительные вещи! Правда? А пейзажи, привезенные с юга, и этюды нагого тела, сделанные у Бутена, ноги девочки, живот женщины, ах, этот живот!.. Должно быть, у папаши Мальгра остался его лучший этюд, — равного не напишет, как бы он ни лез из кожи, ни один из наших молодых мэтров. Что и говорить, это был не какой-нибудь ремесленник! Это был великий художник!
— И подумать только, — сказал Сандоз, — что эти ничтожные копировальщики из Академии и газетчики упрекали его в лености и невежестве, повторяя друг за другом, что он никогда не желал учиться своему ремеслу!.. Боже мой, это он-то ленивец! Я сам видел, как он падал от изнеможения после не-. прерывных десятичасовых сеансов, он отдал искусству всю жизнь и погиб из-за него… Он — невежда! Ну, не идиотизм ли это?! Им никогда не понять, что если ты удостоился чести внести в искусство нечто новое, свое, это новое неизбежно опрокидывает все то, чему тебя учили! И Делакруа не знал своего ремесла, потому что не укладывался в тесные рамки. Ах, болваны! Прилежные ученики, худосочные зубрилы, неспособные на малейшее отклонение от правил!
Он сделал несколько шагов в молчании, затем добавил:
— Героический труженик, страстный наблюдатель, у которого в голове умещалось столько знаний, одаренный великий художник с буйным темпераментом… И ничего не оставить после себя!
— Решительно ничего, ни одного полотна, — подтвердил Бонгран. — Я знаю только его наброски, эскизы, заметки, сделанные на лету, весь этот необходимый художнику багаж, который не доходит до публики… Да, тот, кого мы опускаем сейчас в землю, в полном смысле этого слова — мертвец, настоящий мертвец!
Им пришлось ускорить шаг, так как, разговаривая, они отстали. Между тем дроги, проскользнув мимо винных погребов, чередовавшихся с мастерскими надгробных памятников, свернули вправо, на дорогу, упиравшуюся в самое кладбище. Товарищи Клода присоединились к маленькой процессии и вместе с ней вошли в кладбищенские ворота. Впереди шествовали священник в стихаре и мальчик-певчий с кропильницей. Кладбище на пустыре, еще совсем новое, выравненное по шнуру, было разбито на квадраты широкими симметричными дорожками. Вдоль главных дорожек изредка виднелись памятники, а все остальные могилы, которых здесь выросло уже слишком много, едва возвышались над землей; это были сделанные наспех временные насыпи, так как места сдавались здесь в аренду всего на пять лет; в камнях, осевших в землю, потому что под ними не было фундамента, в зеленых деревцах, не успевших вырасти, отражались сомнения родственников — производить или нет значительные затраты; во всем чувствовался недолгий дешевый траур, и от этого просторного поля. напоминавшего казарму или больницу, веяло холодом и опрятной нищетой. Ни воспетого в романтической балладе уголка, ни густолиственного приюта, пугающего своей таинственностью, ни хоть чем-нибудь примечательной могилы, говорящей о вечности и гордыне! Это было новое, вытянувшееся в линейку, занумерованное кладбище, кладбище демократических столиц, где ежедневный прилив новых пришельцев вытесняет приток прошедшего дня и где вновь прибывшие выстраиваются гуськом, как на процессии под оком полиции, наблюдающей, чтобы не было чрезмерного скопления.
— Черт побери! — пробормотал Бонгран. — Здесь не оченьто весело!
— Почему? — возразил Сандоз. — Здесь уютно, много воздуха. И взгляните, хотя солнца и нет, все же краски чудесны!
И в самом деле, в свете серого утреннего ноябрьского неба под порывистым, пронизывающим северным ветром низкие могилы, украшенные гирляндами и бисерными венками, принимали очень нежные, очаровательно чистые тона. Были здесь совсем белые могилы, были и совсем черные, в зависимости от окраски бисера; и эти контрастные цвета мягко светились на фоне поблекшей листвы карликовых деревьев. Арендой, выплачиваемой в течение пяти лет, родственники исчерпывали свой культ мертвых, и так как незадолго до этого был день поминовения усопших, повсюду лежали груды венков. Только кое-где увяли живые цветы, затерявшиеся в бумажных лентах. Несколько венков из желтых бессмертников блестели, как будто их только что вычеканили из золота. Но все затмевал бисер, настоящий бисерный поток, скрывавший надписи, которыми были испещрены камни и ограды, бисерные сердечки, гирлянды, медальоны, бисерные рамочки, в которых можно было увидеть под стеклом всевозможные изречения, соединенные руки, шелковые банты и даже фотографические карточки, сделанные на городских окраинах на желтой бумаге, карточки, с которых глядели некрасивые, трогательные, застенчиво улыбающиеся женские лица.
Похоронные дроги следовали по проспекту Рон-Пуэн; и Сандоз от наблюдений над пейзажем вернулся мыслями к Клоду и опять заговорил о нем:
— Клоду, с его пристрастием к современности, это кладбище пришлось бы по душе… Конечно, он был поражен болезнью до самого мозга костей, в нем была ущербность гения: на три грамма субстанции больше или меньше, как он, бывало, говорил, обвиняя своих родителей в том, что они создали его таким чудаком. Но недуг скрывался не только в нем одном, он пал жертвой нашей эпохи… Да, наше поколение с головой увязло в романтизме, мы пропитаны им до сих пор и, как ни стараемся его смыть, окунуться в ванну грубой действительности, пятна нельзя вывести, и щелок всего мира не отобьет его запаха.
Бонгран улыбнулся.
— О, я сам достаточно долго был под влиянием романтизма. Мое искусство вскормлено им, и, больше того, я остался нераскаянным. Если даже в нем причина моей теперешней бесплодности — пускай! Я не могу отступиться от религии, которую исповедовал в течение всей моей творческой жизни… Но вы совершенно правы: все вы, хоть и взбунтовались против романтизма, остаетесь его детищем. Так же, как и Клод со своей огромной Обнаженной женщиной среди городских набережных, этим экстравагантным символом.
— Ах, эта Женщина! — перебил Сандоз. — Это она его убила! Если бы вы только знали, что она для него значила! Мне никогда не удавалось вытравить ее из его сердца… Как же вы хотите, чтобы сохранялось ясное зрение, уравновешенность и здравый смысл, если в голове могут рождаться подобные фантасмагории?.. Не только ваше, но и наше поколение слишком заражено чувствительностью для того, чтобы ему удалось создать здоровые произведения. Понадобится одно, может быть, два поколения, пока не научатся писать картины и книги, опираясь на логику, так, чтобы из них вставала высокая и неприкрашенная правда действительности… Только сама жизнь, только природа может быть настоящей основой для творчества, определять грань, за которой начинается безумие; и не надо бояться, что правда обезличит произведение, этому помешает темперамент, который всегда выручит истинного художника. Разве я отрицаю значение личности, то, еде заметное прикосновение пальца художника, которое может исказить произведение, но оно же и накладывает на него отпечаток нашей индивидуальности.
Вдруг он повернул голову и порывисто прибавил:
— Постойте! Что это там горит?.. Никак, они устраивают здесь праздничную иллюминацию!
Похоронная процессия только что завернула за угол, достигнув Рон-Пуэна, где нахвдилась общая могила — груда костей, мало-помалу наполнявшаяся останками, выбрасываемыми из могил; камень, водруженный на ней посреди покрытой дерном клумбы, исчез под кучей венков, возложенных сюда наугад набожными людьми, чьи покойники уже лишились собственной могилы. Дроги медленно покатились налево, к поперечной аллее Э 2, послышалось сухое потрескивание, и над низкорослыми платанами, окаймлявшими тротуар, поднялся густой дым. Шествие медленно подвигалось, наконец вдали показалась какая-то тлевшая землистая куча. Все стало понятно: большой квадрат участка был изрыт глубокими параллельными бороздами. Оттуда извлекли старые гробы, чтобы предоставить землю новым трупам: так крестьянин перепахивает старую ниву перед тем, как начать новый сев. Пустые длинные могилы разверзлись, комья жирной земли дышали в открытое небо, и в этом уголке поля был разведен костер, где сжигали прогнившие гробовые доски, треснувшие, сломанные, съеденные землей доски, превращавшиеся в красноватые комочки чернозема. Пропитанные трупной влагой, они не хотели гореть, глухо потрескивали и только чадили, густые облака дыма поднимались к бледному небу, ноябрьский северный ветер прибивал их к самой земле, рвал на рыжие лоскутья и носил через низкие могилы по всему кладбищу.