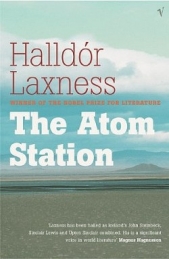Самостоятельные люди. Исландский колокол

Самостоятельные люди. Исландский колокол читать книгу онлайн
Лакснесс Халлдор (1902–1998), исландский романист. В 1955 Лакснессу была присуждена Нобелевская премия по литературе. Прожив около трех лет в США (1927–1929), Лакснесс с левых позиций обратился к проблемам своих соотечественников. Этот новый подход ярко обнаружился среди прочих в романе «Самостоятельные люди» (1934–35). В исторической трилогии «Исландский колокол» (1943), «Златокудрая дева» (1944), «Пожар в Копенгагене» (1946) Лакснесс восславил стойкость исландцев, их гордость и любовь к знаниям, которые помогли им выстоять в многовековых тяжких испытаниях.
Перевод с исландского А. Эмзиной, Н. Крымовой.
Вступительная статья А. Погодина.
Примечания Л. Горлиной.
Иллюстрации О. Верейского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она старалась подавить кашель, вызванный дымом, чтобы никого не разбудить. Пусть бы никто не проснулся, пусть спят и спят, лишь бы не видели ее, не обращали на нее внимания, не заговаривали с ней. Если бы никогда больше не занималась заря, если бы вода все стояла, не закипая, если бы огонь не разгорался! Ауста была уверена, что она уже совсем, совсем не та, что была вчера, и, увидев ее, все испугаются и прогонят ее. А братья? Они уже не братья ей, или, вернее, она больше им не сестра. Давно уже знала Ауста, что она не такая, как они; она завидовала им с самого раннего детства, понимала, что они по какой-то таинственной причине выше ее. Чего-то не было ей дано, и вот пришло время расплачиваться за это. Ничего подобного с ними никогда не произойдет, и им так трудно будет понять ее судьбу, что это разъединит их на веки вечные. Нет, никто на всем белом свете не поймет того, что приключилось с ней. Она стояла одна-одинешенька, вне мира, — и это непоправимо, в этом одиночестве она и умрет. Всякая связь с родными оборвалась, для нее теперь начинается другая жизнь. Все оставалось как раньше, изменилась только она. Ни с кем ничего не случилось, только с ней. Отныне день будет ей чужой — каждый день, все дни. И не только чужой — неразрешимая задача, лабиринт, безысходность. Если бы можно было весь век стоять над этой несогретой водой, не дожидаться, чтобы проснулись те, от кого она уже оторвана, с кем ее уже ничто не связывает, жить — или, вернее, не жить — где-то между бытием и небытием, у чуть тлеющего огня, слушая потрескивание березовых веток, в пасмурном, сером свете раннего утра, не ища объяснения ночным переживаниям, лишь смутно вспоминая незнакомую страшную птицу с хищным клювом, которая только один раз пролетела, хлопая крыльями, над болотом.
Но уже в следующий миг она начала искать объяснение тому, что произошло. Главное — что она сделала? Нет, она ничего не сделала. Она радовалась его радостью, какой-то ток прошел через ее тело, она прильнула к нему, но совершенно невольно — оттого что ток прошел через нее среди ночи, когда он потушил свет. И разве это ее вина? Почему вообще человека пронизывает ток? Это сама жизнь — и тут уж ничего не поделаешь. Разве это запрещено? Но зачем же она тогда родилась? Ничем искра жизни продолжала тлеть в ней, когда она лежала под Гипсом у собаки — теплой собаки, у которой были блохи, а может быть, и глисты? Почему ее отец не взял с собой эту собаку, когда ушел в горы искать овцу? Нет, она не сделала ничего, ничего плохого — с той минуты, как лежала под боком у собаки, до утра. Какой-то непонятный ток пронзил ее…
И все же… Она позволила ему… Почему она позволила ему? Почему она не подумала об отце? Милый отец! Ее резанула ужасная боль, проникшая до самого сердца. Нет, нет, он никогда не узнает, — он, который все доверил ей и в доме и вне дома, который прежде всего научил ее беречь самое себя, который на один короткий миг прижал ее к своей груди…
У нее вырвалось судорожное рыдание. Она никак не могла успокоиться. Слезы текли сквозь ее пальцы и капали в воду, стоявшую на плите. Она прижала локти к бокам, чтобы удержать рыдания. Сегодня ночью он обнял ее, и они были вместе, и ничто не отделяло их друг от друга, и она верила, что это сама радость, и забыла об отце, забыла обо всем на свете… И все же она хотела уйти от этого… но не могла, не могла, не могла. От этого не уйдешь, потому что это сама жизнь. Надо стоять здесь, надо плакать над тлеющим огнем, который ты сама зажгла.
Эта вереница благочестивых мыслей, жужжа, проходит где-то позади, словно толпа кающихся грешников, а извечный враг атаковал ее с незащищенного фланга. Целое сонмище врагов, которые выносят ей приговор, ссылаясь на бога. Ее охватила нестерпимая тоска, почти отчаяние. Есть же предел страданиям, на которые обрекает человека христианская мораль. Ауста быстро метнулась мимо бабушки и остановилась у кровати учителя, будто его объятие было верным и священным убежищем. В смертельном страхе она прикоснулась к его щеке, положила свою холодную ладонь под расстегнутый ворот его рубахи… но вместо того чтобы спасать ее, он издал во сне жалобный звук и повернулся к стене; перина соскользнула с него, и он остался обнаженным. Вот где оказалась ее рубашка — она комком лежала возле него. Ауста схватила рубашку и набросила на него перину — все в том же порыве страха и отчаяния: она никогда не видела голого человека. К счастью, не видела и теперь, — ведь сквозь окно проникал такой скупой свет. Что же она сделала? Кто этот мужчина?
Было уже почти светло, когда Ауста отправилась с братьями в овчарню. Свежий мартовский ветер был ей приятен, и она немножко успокоилась, возясь с овцами и сеном. Но она не решалась смотреть в лицо братьям — из боязни, что они ее не узнают. А учитель все лежал в постели лицом к стене. Ауста зашла, прислушалась — дыхания не было слышно. Она страшно испугалась: уж не умер ли он?
— Не хочешь ли пить? — несколько раз прошептала она. — Кофе горячий.
Нет, он не мертв! Он проснулся, открыл глаза. Ауста очень обрадовалась, хотя он ответил ей только тяжелым стоном, — она надеялась, что это пройдет. Она поднесла ему кофе и помогла сесть.
У учителя было серое, болезненное лицо, поросшее длинной щетиной, волосы растрепаны. Он не смотрел на Аусту. Она села на его кровать, когда он и не просил ее об этом, и провела по его волосам обломком гребня.
— Вот тебе кофе, — тихонько прошептала она, продолжая расчесывать его волосы.
Да, она его причесывала. Это было невероятно. И все же она это делала — делала просто, не задумываясь. Она придвинулась к нему, поддерживала его, поправляла подушки под его плечами, — все делалось как будто само собой. Вся ее застенчивость исчезла. Она спросила: больно ли ему, не хочется ли ему чего-нибудь? Какое значение имело то, что случилось с ней, по сравнению с тем, что могло случиться с ним.
— Я умираю, — сказал он, глотнув кофе. — Оставь меня, я не заслуживаю этого,
Он не благодарил ее за то, что она причесала его, приняла у него пустую чашку; он со стоном лег, а она заботливо укутала его. У нее пересохло в горле, страшно билось сердце, а он ни разу не взглянул на нее, не сказал ей ни одного ласкового слова, ничего не шепнул.
Так он лежал некоторое время. Она все сидела и смотрела на него нежным и преданным взглядом. Вдруг его губы зашевелились, и он прошептал:
— Боже всемогущий, помоги мне! Боже, прости меня!
Она не могла уйти от этой муки, она все сидела возле него, на краю постели, все прислушивалась к его стонам и вздохам. Лекарство кончилось, склянка была пуста, и, кроме бога, не было никого.
В этот день бог вдруг стал главным действующим лицом на хуторе; и казалось, что они понимают его, — каждый на свой лад. Так вот он каков — бог!..