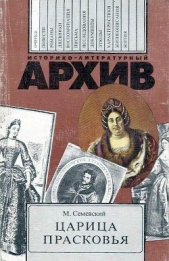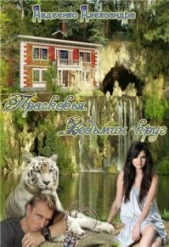Лик и дух Вечности

Лик и дух Вечности читать книгу онлайн
Воспоминания о Марине Цветаевой
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Видимо, взмокали, и она их растопыриванием проветривала, — сказала я. — Мне доводилось наблюдать такие неврозы.
Позже мама признавалась, что, оставшись в музее один на один с Мариной Ивановной, в какой-то момент испытала страшную неуютность, словно ее запечатали наедине с нечеловеческим сознанием, с существом нездешним, пришлым, не таким, чужеродным, с другой сутью. Чтобы проиллюстрировать мамину мысль более выпукло, скажу что так, наверное, чувствуют себя люди, оказавшиеся в закрытом пространстве с толпой сумасшедших. Сказано это не в обиду Цветаевой, речь идет только о том, что она стояла в одном ряду с теми, кто преломлял мир и отражал вовне не так, как остальные люди. И от этого мир вблизи нее приобретал другие свойства, становился качественно иным, отличался своей физикой и влиял на нормальных людей по-другому. Так, допустим, сумерки солнечного затмения, случившегося днем, влияют на фауну — сразу же настораживающуюся, приходящую в состояние панического побега, обостряющую свои рефлексы.
Маме уже случалось оказываться в сходной ситуации, переживать нечто подобное, отдаленно напоминающее вот это одиноко-упорное стояние напротив чего-то огромного и непостижимого, принимая на себя его внимание. Во всем, что от Цветаевой струилось, маме чудилась знакомость, виденность прежде, встреченность когда-то раньше, повторение каких-то впечатлений, не зацепившихся за ее внимание по причине их естественности, хотя поражающих.
Если бы сидящая перед ней женщина не была известным поэтом, не была гением, если бы проявляла привычные личностные качества и масштабы ума, то мама без затруднений сделала бы вывод — это настрадавшийся, еще не повзрослевший ребенок, для которого мир взрослых навсегда остается некомфортным и пугающим. Было очевидно, что она избегает прямого зрительного контакта, отводит взгляд от собеседника, а когда это могло показаться вызовом или пренебрежением, то поворачивалась к нему лицом, но при этом закатывала глаза под лоб, страшновато мелькая белками, и часто-часто мигала неожиданно тяжелыми веками. Попав в малознакомую обстановку, Цветаева совершенно по-детски растерялась и несколько минут тыкалась в стороны, словно слепая. Да и в разговоре плохо или неохотно переключала внимание от одного собеседника на другого, от одной темы к другой. Не любила диалог, предпочитала либо только слушать, либо говорить сама.
Она по несколько раз повторила объяснения, почему отказалась от посещения музея на общих основаниях, по какой причине не желает осматривать экспозицию и уклоняется от контакта с официальными лицами. Это были короткие фразы, афористичные по форме: "В дом родного отца не ходят по билету", "Я все время курю", "Здешний климат не выносит моего имени".
Минута маминого замешательства прошла быстро, едва она вспомнила свой недавний учительский опыт. Да, именно так чувствуешь себя, входя в класс, наедине с детьми — когда это впервые, когда остро испытываешь уникальность этого момента, когда, отвыкшая от детства, вдруг погружаешься в него в качестве взрослого и понимаешь его слабость и силу. У детей тоже нет полных представлений о мире, и они создают вокруг себя особенные поля — неупорядоченные, пронизанные любопытством, готовностью риска и потребностью в опеке.
Действительно, по своей психической сути Цветаева оставалась подростком, с незакаленной, ранимой душой, душой-зародышем, прекратившим свое усложнение в момент какого-то страшного потрясения. Возможно, это была смерть матери? От нее веяло юностью, чуть утомленной, взгрустнувшей от того, что на смену ей молодость все не приходила. Вот поэтому ее и беспокоила собственная душа — не такая, как у других, не оставляло желание разобраться в этом, а у окружающих, кто обладал адекватной отзывчивостью, появлялся импульс взять эту женщину под крыло, понести на руках, прикрыть от ветров. К сожалению, таких на ее пути встречалось не так уж много.
Но было в ее эманациях еще одно, что сбивало с толку, путало все представления о порядке вещей, об их свойствах и количествах, было то, что не вырисовывалось из обычного человеческого опыта, не следовало из логики, что крушило вокруг себя устоявшиеся гравитационные связи. Оно кипело и бурлило и вторгалось дикими протуберанцами в обыденность, пугая человека, начинающего чувствовать себя струей вентилятора против урагана. В нем было все без меры и границ: яростный натиск, неиссякаемая мощь, огромность и интенсивность. Это была яркая пассионарность, как разновидность стихии — еще одной, инкогнито существующей на земле, воплощенной в этот хрупкий образ, уставший от своего неистового бурления. Ни больше ни меньше — Цветаева была закрученным ядром странной галактики, неизученным образованием с бесконечным потенциалом.
Она обладала интересной и завораживающей манерой мышления и преподнесения мыслей. Делалось это так: сначала она декларировала мысль короткой и внятной фразой, почти афористичной, а потом начинала эту фразу рассекать на части и каждую часть отдельно начинять образами, чтобы сделать ее выпуклой, зримой. На этом принципе строились и многие стихи. Взять хотя бы прославленное "Стихам моим…" О чем в нем говорится? Там она утверждает: "Моим стихам настанет свой черед". И все. Простая мысль. Остальное — продольно-поперечные сечения, сообщающие сказанному временну'ю перспективу: и как рано эти стихи возникли, и на что были похожи, и какими резвыми были, и как пока что не имеют востребованности, пылятся, и что это закономерно, ибо такова технология их созревания. Но — им, опередившим время, так далеко вырвавшимся в будущее, — настанет свой черед.
Часто и подолгу мы с мамой беседовали о ее жизни в Москве, о знакомстве и общении с Цветаевой, с непривычным кругом людей, открывшим ей практически другую культуру. Об этом она, восстановив отношения с моим отцом, вынуждена была долго молчать: опять же — он плохо переносил конкуренцию с образованным окружением. Но вот папы не стало, и мама позволяла себе вспомнить о собственной душе, подумать не о нем одном — о других милых ей вещах. Да только хорошего много не бывает.
— Вот как странно, — в другой раз удивлялась мама. — О многом я на десятилетия забыла, а теперь оно вспоминается, словно было вчера. Вижу руки Марины Ивановны… Ну не изящные как у белоручек, не холенные, но не это их отличало.
— А что?
— Пальцы у нее были интересные — толстенькие и на концах загнуты вверх. И длинные, и красивые, а на концах — как у белошвейки… Да и ногти широковаты. Портили они ей руку.
— На таких ногтях, пожалуй, нельзя было делать маникюр.
— Ну конечно, — хмыкнула мама. — Зря к ней цеплялись разные фифочки, обсуждали ее. И такой разной, двойственной она была вся — прекраснейшая фигура, а плечи широкие и шеи нет. Или лицо: взять все по отдельности — просто классика, а вместе соединить — привет из орды.
Мама прикрыла глаза, что-то промурлыкала непонятное. А заметив, что я озадачилась, пояснила:
— Вспоминала стихи, которые Марина Ивановна придумала для меня.
— Ого!
— Да, — кокетливо сказала мама. — Было в ней чисто детское озорство. Вот, например, она вдруг спросила, действительно ли меня зовут Евой. Я, конечно, смутилась, назвала свое полное имя — Прасковья.
— Да неправильно это! — вскричала Цветаева и засмеялась звонко и неожиданно. — Такого имени вовсе нет.
— А как правильно?
— Правильно Евпраксия. Вот вам от меня стихи, — сказала она. — На память о сегодняшней встрече:
— А Ева — это правильно? Меня так только здесь называют. А дома я Паша.
— Ну с чего вдруг Паша? — задергалась на стуле Марина Ивановна от возмущения. — В вашем имени нет звука «ш», да и звук «а» только раз встречается. А вот Ева — это, да, наиболее правильно!