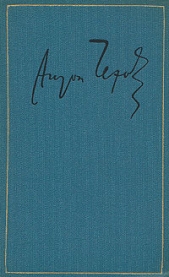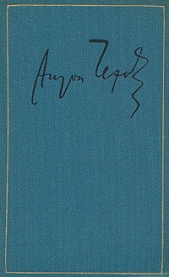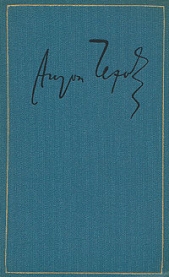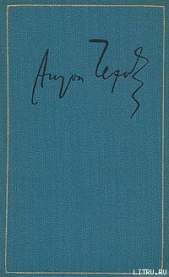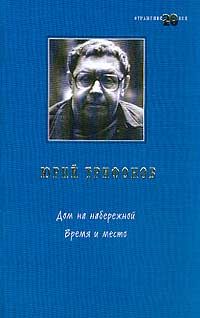Рассказы. Юморески. 1886—1886
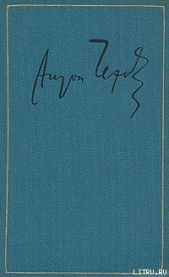
Рассказы. Юморески. 1886—1886 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля всё та же, стена не ближе и клочок остается клочком. Мелькнет белый, угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим, блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределенными очертаниями; чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе — и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев, один листок сорвется и лениво полетит к земле… А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги. На траве виснут тусклые, недобрые слезы. Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов! Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения.
Андрей Птаха несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени.
— Да ты православный? — спрашивает он.
— Православный, — кротко отвечает бродяга.
— Гм!.. стало быть, тебя крестили?
— А то как же? Я не турок. И в церковь я хожу, и говею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Леригию я исполняю в точности…
— Ну, так как же тебя звать?
— А зови как хочешь, парень.
Птаха пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же сотский, Никандр Сапожников, солидно молчит. Он не так наивен, как Птаха, и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Он шагает особняком, не снисходит до праздной болтовни с товарищами и как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность.
— Бог тебя знает, как об тебе понимать надо, — продолжает приставать Птаха. — Мужик — не мужик, барин — не барин, а так, словно середка какая… Намеднись в пруде я решета мыл и поймал такую вот, с палец, гадючку с зебрами и хвостом. Спервоначалу думал, что оно рыба, потом гляжу — чтоб ты издохла! — лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, не то чёрт его разберет, что оно такое… Так вот и ты… Какого ты звания?
— Я мужик, крестьянского рода, — вздыхает бродяга. — Моя маменька из крепостных дворовых были. С виду я не похож на мужика, это точно, потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали, ну, а я плоть и кровь ихняя, при них состоял в господском доме. Нежили оне меня, баловали и на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывесть. Я на кровати спал, каждый день настоящий обед кушал, брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тем и меня кормили; им господа на платье подарят, а оне меня одевают… Хорошо жилось! Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал, так это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамоте меня маменька обучили, страх божий сызмальства внушили и так меня приспособили, что я теперя не могу никакого мужицкого, неделикатного слова сказать. И водки, парень, не пью, и одеваюсь чисто, и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли еще живы, то дай бог им здоровья, а ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царствии твоем, идеже праведные упокояются! [144]
Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой, поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знамением.
— Пошли ей, господи, место злачно, место покойно! — говорит он протяжным, скорее старушечьим, чем мужским голосом. — Научи ее, господи, рабу твою Ксению, оправданием твоим! Ежели б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках, без всякого понятия! Теперя, парень, о чем меня ни спроси, я всё понимаю: и светское писание, и божественное, и всякие молитвы, и катихизиц. И живу по писанию… Людей не забижаю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю во благовремении. У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и всё плачу, плачу…
— Чего ж ты плачешь?
— Пишут жалостно! За иную книжечку пятачок дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности.
— Отец твой помер? — спрашивает Птаха.
— Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя, нечего греха таить. Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дитё. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика выйтить…
— И на барина налетела, — усмехается Птаха.
— Не соблюли себя, это точно. Были оне благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили. Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может, только по званию я мужик, а в естестве благородный господин.
Говорит всё это «благородный господин» тихим, слащавым тенорком, морща свой узенький лобик и издавая красным, озябшим носиком скрипящие звуки. Птаха слушает, удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами.
Пройдя верст шесть, сотские и бродяга садятся на бугорке отдохнуть.
— Собака и та свою кличку помнит, — бормочет Птаха. — Меня звать Андрюшка, его — Никандра, у каждого человека свое святое имя есть и никак это имя забыть нельзя! Никак!
— Кому какая надобность мое имя знать? — вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку. — И какая мне от этого польза? Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу, а то ведь хуже теперешнего будет. Я, братцы православные, знаю закон. Теперя я бродяга, непомнящий родства, и самое большее, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и 30 не то 40 плетей дадут, а ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Я знаю!
— А нешто ты был в каторжной работе?
— Был, друг милый. Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил.
— За какое дело?
— За душегубство, добрый человек! Когда я еще мальчишком был, этак годов восемнадцати, маменька моя по нечаянности барину заместо соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, перепутать не трудно…
Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит:
— Они благочестивые были, но кто их знает, чужая душа — дремучий лес! Может, по нечаянности, а может, не могли в душе своей той обиды стерпеть, что барин к себе новую слугу приблизил… Может, нарочно ему всыпали, бог знает! Мал я был тогда и не понимал всего… Теперь я помню, что барин, действительно, взял себе другую наложницу и маменька сильно огорчались. Почитай, нас потом года два судили… Маменьку осудили на каторгу на 20 лет, меня за мое малолетство только на 7.
— А тебя за что?
— Как пособника. Стакан-то барину я подавал. Всегда так было: маменька приготовляли соду, а я подавал. Только, братцы, всё это я вам по-христиански говорю, как перед богом, вы никому не рассказывайте…
— Ну, нас и спрашивать никто не станет, — говорит Птаха. — Так ты, значит, бежал с каторги, что ли?
— Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало. Дай бог здоровья, люди и сами бежали, и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют! А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда богу молюсь, я люблю лампадочку или свечечку засветить, и чтоб кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтоб на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером.
Бродяга снимает фуражку и крестится.
— А в Восточную Сибирь пущай ссылают, — говорит он: — я не боюсь!