Критикон
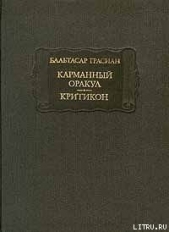
Критикон читать книгу онлайн
Своеобразие замысла «Критикона» обозначается уже в заголовке. Как правило, старые романы, рыцарские или плутовские, назывались по собственному имени главного героя, так как повествовали об удивительной героической или мошеннической жизни. Грасиан же предпочитает предупредить читателя об универсальном, свободном от чего-либо только индивидуального, об отвлеченном от всего лишь «собственного», случайного, о родовом, как само слово «человек», содержании романа, об антропологическом существе «Критикона», его фабулы и его персонажей. Грасиан усматривает в мифах и в знаменитых сюжетах эпоса, в любого рода великих историях, остроумно развиваемые высшие философские иносказания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ох, и всполошился же Боб, увидав Мома! Начался меж ними двумя яростный спор. Сбежались приверженцы, сгрудились в два отряда: смутьяны, критиканы, умники, всезнайки, нытики, капризники, сатирики и злословы поддерживали Мома. А угодники, любезники, аллилуйщики, подхалимы, разини и простофили стали на сторону Боба. Критило и Андренио глядели во все глаза, как вдруг подошел к ним некий чудак и сказал:
– Нет большей глупости, чем слушать глупости. Коль ищете Честь, пойдемте со мной: я приведу вас туда, где пребывает честь всего мира.
Куда он их привел и где они на самом деле ее нашли, узнаете в следующем кризисе.
Кризис XII. Престол власти
Заспорили однажды Искусства и Науки, кому из них подобает высокий титул царицы, солнца разума и августейшей владычицы знания. Поставив вне конкурса священную Теологию (науку воистину божественную, ибо цель ее – познание Божества, установление бесчисленных его атрибутов), подняв ее высоко над собою и даже над звездами, – в ряд с кем-то ставить ее было бы дерзостью изрядной, – остальные науки, каждая из коих, разумеется, почитает себя светочем истины, путеводной звездой разума, открыли спор. Выдающиеся умы высказались в пользу обеих Философий – умы изобретательные за натуральную, рассудительные за моральную; среди них блистали Платон, одаривший бессмертием богов, и Сенека – нам подаривший бессмертные сентенции. Не менее многочисленной и блистательной была свита Гуманистики, умы все гуманные. Один из них, остроумец в плаще и при шпаге, закончил свою речь так:
– О достохвальная Энциклопедия, вся мудрость жизни в тебе заключена! Само твое имя Гуманистика говорит, сколь достойна ты человека. И недаром люди разумные дали тебе прозвание Изящной Словесности – среди Искусств и Наук ты более всех блистаешь изяществом.
Но вот Бартоло и Бальдо подняли голос за Юриспруденцию; с изумительной эрудицией, ссылаясь на сотни две текстов, они убедительно доказали, что только ей удалось открыть дивный секрет, как сочетать честь и пользу, вознося ее адептов на должности высокие, высочайшие.
Гиппократ и Гален, рассмеявшись, сказали:
– Господа, у нас-то дело идет ни много, ни мало о жизни. Чего стоят все блага, если нет здоровья?
И уроженец Алькала, ученый Педро Гарсиа [495], простецкое свое имя озаривший славою, тогда напомнил, что и божественный мудрец велел почтить врачей, а не юристов или поэтов.
– Вот они где – и Честь и Слава! – хвалился историк. – Мы, мы даруем личностям жизнь и бессмертие!
– Ба, ничто не сравнится в приятности с Поэзией, – твердил поэт. – Пусть Юриспруденция берет себе честь, а Медицина – пользу. Но наслаждение, восторг да будут отданы сладкогласным лебедям.
– Вот как? А Астрология? – удивлялся математик. – Неужто нет у нее счастливой звезды, у нее, у той, что со всеми звездами дружит и с самим солнцем за панибрата?
– Э, нет, чтобы жить всласть и иметь власть, – заявил атеист, си-речь, этатист, – я выбираю Политику. Это наука королей, а стало быть – королева наук.
Спор претенденток был в самом разгаре, когда великий канцлер Знание, достойный президент ученой Академии, выслушав все стороны и взвесив их доводы, подал знак, что сейчас огласит приговор. Вмиг он успокоил шумевших, все с нетерпением обратились к нему, вытянули шеи, поднялись на цыпочки, насторожили уши, впились глазами. Посреди этого благоговейного молчания – и муха не прожужжит! – строгий президент расстегнул камзол и достал хранившуюся на груди книжицу-карлицу, страничек в двенадцать – не том, атом; подняв ее высоко для всеобщего обозрения, он сказал:
– Вот венец знаний, вот наука наук, вот компас для разумеющих.
Все, дивясь и переглядываясь, недоумевали, что это такое, что за наука такая, о коей никто не ведает, и с сомнением ждали президентовых объяснений.
– Вот подлинно практическая наука, пособие для понимающего, она руками и ногами наделяет, даже плечом подопрет; пигмея из пыли и грязи вознесет на престол. Спрячьтесь Цезаревы «Аутентики» [496], скройтесь «Афоризмы» [497] врача, видно, так названные потому, что лекарям обеспечивают недурную аферу – спроваживать из мира его обитателей. Вот превосходная наука жить – не тужить! Ни Политика, ни Философия, ни все прочие вместе, не дают того, что она – одной буквой.
Любопытство росло как на дрожжах, все затаили дух, дивясь таким речам в устах человека разумного.
– Короче, – сказал он, – сия золотая книжица – благородное порождение знаменитого грамматика, дивный труд Луиса Вивеса [498], озаглавленный «De conscribendis epistolis», сиречь «Искусство писать…»
Он не успел вымолвить слово «письма» – как разразилось ученое собрание смехом, такими бурными раскатами хохота, что оратору никак не удавалось продолжить речь и сообщить, наконец, свои объяснения. Он спрятал книжечку за пазуху с видом столь суровым, что все притихли. – Весьма сожалею, – сказал он совершенно спокойно, – что нынче на вас напал столь глупый смех. Искупить его сможете лишь искренним признанием своего неразумия. Знайте же, в целом мире не сыскать науки равной уменью написать письмо; хочешь повелевать, следуй мудрому изречению: Qui vult regnare, scribat, – «Кто желает царствовать, пусть пишет».
Поучительную эту историю поведал нашим странникам некто – не личность, даже не человек, а тень человека, призрак, – словом, ничто. Ни сильной руки, ни голоса, ни хребта, ни ног, чтобы отбрыкиваться; по-мужски стоять и то не мог; безбородый и сроду бороду не стриг.
– Существуешь ты или нет? – спросил его Андренио изумленно. – А коль существуешь – чем живешь?
– Я – тень, – был ответ, – и всегда держусь в тени. И не удивляйся – большинство людей в мире и рождаются лишь для того, чтобы быть в картине тенями, не бликами, не контурами. К примеру, что такое второй сын, как не тень старшего, наследника? Кто рожден услужать, подражать, кто идет на поводу, кто не умеет сказать ни «да», ни «нет», у кого нет собственного мнения, кто от всех зависим – что они, как не тени других людей? Поверьте, большинство людей – тени: тени других, за кем следуют по пятам. Удача наша в том, чтобы к доброму дереву прислониться, не быть тенью какого-нибудь пня, пробки, дубины. Вот и брожу в поисках влиятельной особы, чтобы, став ее тенью, повелевать миром.
– Ты – повелевать? – спросил Андренио.
– А почему бы нет? Сколько людей, еще незаметней, еще ничтожней меня, всем заправляли. Уверен, скоро увидите меня на троне. Дайте только добраться до столицы, и, ежели нынче я тень, завтра засияю, что ясный день. Идемте туда, увидите там честь мира – славного, отважного, справедливого августейшего Фердинанда [499]. Он честь века нашего, второй столп в поп plus ultra веры, основание твердыни ее, престол правосудия, средоточие всех добродетелей. Ибо, поверьте, нет чести, кроме той, что зиждется на добродетели; порок неспособен создать ничего великого.
Сильно обрадовались оба странника тому, что приближаются к заветной обители желанного сокровища, к блаженной конечной гавани. На вершине высокой горы разглядели они величавый град, который солнечные лучи венчают первым. Подойдя ближе, изумились несметному множеству людей, карабкавшихся по откосам к вершине. Осведомились странники, верно ли, что перед ними Столица.
– Разве и так не понятно, – отвечали им, – по толпе наглецов?
Да, это Столица, и в ней – все прочие столицы. Здесь – престол власти; все лезут к нему, не помня себя, и, уже обеспамятев, становятся кто первым, кто вторым, но только не последним.
Некоторые – правда, весьма немногие, – избирали окольный путь заслуг, но пути этому не было ни конца, ни венца Куда легче, чем путь наук, доблести и добродетели, самым легким был золотой путь; штука ишь в том, чтобы лестницу себе смастерить, – самые достойные люди в рукомесле обычно не смыслят. Одному бросили лестницу сверху – не по выбору, а из фавора, – он же, взобравшись на гору, убрал лестницу, чтобы больше никто не поднялся. Другой, напротив, снизу закинул золотой крючок, уцепился за руки двух-трех, уже стоявших наверху, и взобрался без труда. Были там преискусные акробаты честолюбия – на золотых канатах взлетали, как птицы. Один почему-то бранился и проклинал.
























