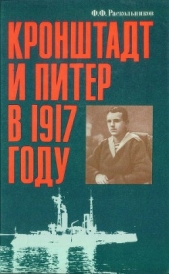Собачий переулок [Детективные романы и повесть]
![Собачий переулок [Детективные романы и повесть]](/uploads/posts/books/111187/111187.jpg)
Собачий переулок [Детективные романы и повесть] читать книгу онлайн
Сборник составили произведения, которые не издавались в течение долгих десятилетий и стали библиографической редкостью, однако в свое время они не только вызвали широкий общественный интерес, но выход их в свет явился настоящей сенсацией для читающей публики.
Роман Льва Гумилевского "Собачий переулок" посвящён теме "свободной любви", имевшей распространение в среде советской молодёжи в 1920-е годы.
"Голод" С. Семенова — рассказ о жизни в голодающем Петрограде в годы Гражданской войны.
"Шоколад" А. Тарасова-Родионова — произведение о "красном терроре" в годы Гражданской войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что оказалось сильнее?! — переспросили все.
— Шоколад! — усмехнулся Шустрый.
— Да, шоколад. Он оказался сильнее… О том, что она имела отношение к Хеккею, я первый раз сейчас слышу. Это меня поражает. Объяснить все это сразу себе не могу. По-видимому, правда, что чужая душа — потемки. Это верно, что Вальц принесла как-то и подарила моей жене на квартире чулки и шоколад ребятишкам. Она объяснила, что у ней, как у артистки, — она ведь бывшая балерина, — вся эта роскошь осталась излишнею от прежнего времени, да и, кроме того, кое-кто из ее былых сослуживцев привозил-де ей с фронта гостинцев. По правде сказать, я простодушно в это поверил. Если бы я был в момент дачи этих подарков, я уверен, что мы бы их не приняли, но жена, не подумав, взяла их в мое отсутствие, и потом мне было уже неловко их возвращать. Да и жену обижать, по правде сказать, мне не хотелось. По глупости считал все это тогда пустяками. О том, что Вальц взяла с Чоткиных взятку в двадцать фунтов золотом, первый раз слышу. Припоминаю, что она была особенно настойчива с его освобождением и во мне даже шевельнулось тогда смутное подозренье, но Чоткин сидел совершенно зря, вследствие нашей неразберихи, и должен был давно быть отпущен на свободу, но просидел бы, наверное, еще черт знает сколько из-за халатности уехавшего следователя, если бы не случайно попавшее в руки Вальц его дело.
— Так что выходит, по-вашему, что Вальц взяла взятку за дело?! — иронически бросил Шустрый.
— Оставьте! — махнул на него Степан.
Точно так же никому никогда не давал я никаких распоряжений о выдаче ей какого-то дубликата ордера Одним словом, всякие подозрения о моей связи с Хеккеем, о моем отношении к этому золоту и вообще о каких-то грязных отношениях с Вальц — чистейший натасканный вздор Однажды вечером, правда, пробовала было подсесть она ко мне на диван и заговорила о любви, — мне казалось тогда, что все это было искренним, — но я тут же вовремя ее смахнул Если курьерша это подслушала, она может все это подтвердить. То же самое вздор и относительно Павлова. Мне он все время казался подозрительным проходимцем. Был разговор об этом и с Кацманом. Решили уволить. Но дела и события как-то захлестнули, и стало просто не до него. Вот и все. Больно, товарищи, было слушать, во что все это обратилось в «объективнейшей» речи товарища Южанина!
Зудин язвительно и брезгливо подернулся.
— То же самое и относительно оргий, — продолжал он. — Какие оргии? Где оргии? Если к нам таскают конфискованные вина и если они незаметно тают — это все скверно и, если хотите, позорно. За всем не углядишь. Но при чем тут басни об оргиях, которые громко вызванивал здесь Южанин. Ведь как-никак, а все же я — Зудин, а не целовальник! — еще злее швырнул он в Шустрого.
— Еще хуже! — выкрикнул тот, подпрыгивая точно на иголках.
— Бросьте! — махнул на обоих Степан.
— Но что самое нелепое, так это обвинение меня в злостном проведении провокационного террора, — кажется, именно так определил мое преступленье Южанин. Я расстрелял, как разбойник, сотню невиннейших граждан в отместку за смерть Кацмана?! Все что хотите, товарищи, но это обвинение я совершенно не в силах осмыслить. Прежде всего это постановление не мое единоличное, а всей коллегии, на заседании которой были и Фомин и Игнатьев. Правда, я настаивал на расстреле, но разве мне кто-либо тогда серьезно возражал?!
— Вы всех терроризовали, — вставил Шустрый.
— Иль, может быть, позднее раскаяние в содеянном прегрешении, — язвительно ухмыляется Зудин, — заставляет теперь кое-кого бить отбой и, умывая руки, валить с больной головы на здоровую?! Что ж, быть может, настанет время, когда сами мы станем судить своих сотоварищей за наиболее энергичное проведение наших лозунгов и наших директив?! Но я не боюсь ответственности, и если бы еще раз повторилась та же самая обстановка, то я поступил бы точно так же, а не иначе.
— Конечно, это ерунда! — мычит Степан, и даже истуканом застывший Ткачеев медленно поднимает на Зудина веки
— Я убил сотню арестованных, — отчетливо отбивает слова Зудин, и его голос звонок как медь, — и совершенно не считался с их виновностью. Разве вообще виновность существует? Разве буржуй виноват, что он буржуй, а крокодил виноват, что он крокодил?! Разве десятки наших зверских врагов, контрреволюционеров, — если им удается честно и глубоко перевернуть свои убеждения динамитом мысли и чувств — не принимаются нами охотно в наши ряды, как кровные братья по общей борьбе и разве в то же самое время мы не сажаем за решетку, быть может, очень талантливых молодцов, сделавших в прошлом очень многое для революции и теперь тоже по-своему искренне ей преданных, но по своей глупости, упрямству и классовой подоплеке являющихся на деле нашими злейшими врагами и авангардом капиталистов?! Разве не так?!
— Вы и себя хотите подвести под эту рубрику? — расплывается улыбочкой Шустрый.
— Себя? — озадачивается Зудин. — Нет, я говорю о том, что я вправе был расстрелять сотню арестованных, не считая их ни виновными, ни невинными, потому что ни виновности, ни невинности в вашем, обывательском смысле этого слова для меня не существует, — вот и все. Но не подумайте также, товарищ Южанин, что я руководствовался чувством мести к этой жалкой своре наших врагов. Отомщение меньше, чем что-либо иное, может меня вдохновить. Пусть этот нелепый предрассудок останется утехой наивных людей, детским наслаждением побить край стола, о который ушибся с разбегу, или выпороть море, потопившее лодку. Мщение — пустой самообман! И все-таки, если угодно, я расстрелял сознательно арестованных совершенно невинных людей!
— Чудовищное рассуждение! — заерзал на стуле Шустрый.
Даже Ткачеев опять лениво поднял на Зудина оживающий взгляд, а Щеглов, раскрасневшись, увлеченно смотрел ему в рот. Только Степан продолжал благодушно водить карандашом по бумаге.
— Организация капиталистов убила Кацмана. Это неважно, что некоторые глупые эсеры наивно считают себя врагами капитала. Это неважно. На деле они добросовестно служат передовыми застрельщиками буржуазного лагеря. Их личные убеждения существа дела ничуть не меняют, а ведь мы ведем классовую борьбу в международном масштабе. На удар нужно было ответить контрударом. Они ударили по личности, потому что общественной жизни и законов ее они не понимают А я взял да и ударил по классу. Я уничтожил первых встречных из их рядов, только первых встречных, ни больше ни меньше, и возвел это в степень неизбежного следствия из их поступка. Не угодно ли еще повторить нападение, милейшие? Не беспокойтесь, больше не повторят: знают, что себе будет стоить дороже!
— В этом вас не обвиняют, — обрывает Степан. — Все это мы знаем: и что такое классовый террор и когда он бывает неизбежен и необходим. Только, конечно, мы уничтожаем все же наиболее активных и организаторов из враждебного нам класса. Все это так, и покаянные сомненья предоставим болтунам. А вот, может быть, вы лучше ответите нам вот на какие вопросы, я их здесь набросал, — и он протягивает Зудину листик бумаги.
— «Почему не было установлено за Вальц наблюдения?» «Какое впечатление от всего этого дела возникнет теперь как у сотрудников чрезвычайки и всех членов партии, так и в широких рабочих кругах, уже широко оповещенных стоустою сплетнею, что Зудин брал взятки через жену?»
— Да, это моя оплошность, — говорит Зудин подавленно. Какое впечатление?.. Самое скверное! — еще глуше шепчет он, опустив голову. Вот когда становится ему мучительномучительно стыдно: так бы вот и провалился сквозь землю.
Есть ли еще у кого-либо вопросы? — обращается Степан к соседям. Вопросов больше нет. Только Шустрый порывается что-то сказать, но, увидев себя одиноким, сконфуженно прячет глаза, закрывая неловко разинутый рот.
Степан о чем-то шепчется сначала с Ткачеевым, потом со Щегловым, и те кивают ему головой.
Распорядитесь, товарищ Шустрый, пока что отправить товарища Зудина туда, где он был. Комиссия вызовет или известит вас о своем решении, — кивает он Зудину, — когда таковое состоится, — и при этом глядит на часы.