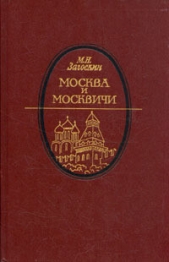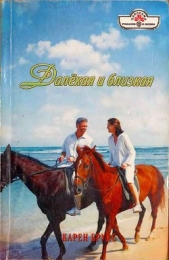Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
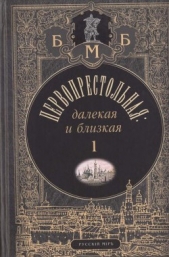
Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1 читать книгу онлайн
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.
В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ближний боярин Морозов, ему далеко перевалило за пятьдесят, суровый вдовец, ревнитель Домостроя, спальник царей Михаила и Алексея, спальники же следили за нравами дворцовых теремов и девичьих, крепко тронулся светлой красой синеглазой Федосьюшки и ввёл её в свой дом.
С нею вошла в дом Морозова молодость и весёлость. Старшие братья Алексей и Фёдор, без сомнения, любили сестру: только одним глубоким братским чувством могло быть написано «Сказание о жизни», какое написал позже о сестре брат Фёдор. А младшая Евдокия, как то бывает часто, во всём, не думая, подражала старшей, как бы повторяла её жизнь. Брат Фёдор позже напишет о сёстрах, что они были «во двою телесех едина душа».
Знаменитый человек Московии, один из самых её мудрых и светлых людей, Борис Морозов, брат мужа юной боярыни, также полюбил её «за радость душевную».
Радость душевная — какие хорошие, простые слова… В них сквозит вся юная боярыня Морозова, усмешливая, синеглазая, лёгкая, с её светлой головой, сияющей, как в тёплое солнце, в жемчуговой кике.
Вот это надо заметить: подвижницы вышли не от ярых изуверов и изуверок, не от дряхлых начётниц молелен, а из живой, весёлой и простодушной московской молодёжи.
Молодой Московией была боярыня Морозова, радость душевная…
Правда, за молодёжью морозовского дома подымается вскоре такой могучий, такой огромный, точно само грозное небо Московии, человек, как Аввакум.
С 1650 года он стал духовником молодой боярыни, её домашним человеком, другом, учителем. Это были те времена «неукротимого» протопопа, когда он был близок к царёву верху, водил дружбу с царским духовником Стефаном Вонифатьевичем, те времена, о каких Аввакум отзовётся позже с весёлой насмешливостью.
— Тогда я при духовнике в тех же полатех шатался, яко в бездне мнозе…
А на Москве это были времена Никона. Точно чёрная туча гнетущая налегла и затмила свет: Никон.
Смута духа, поднятая Никоном, без сомнения, куда страшнее всех наших Смутных времен.
Из Смутных времен Русь вышла победоносная, в светлом единодушии. Она вышла из великого нестроения порывом единодушного вдохновения. Русь, в испытаниях Смуты, впервые за все века вполне обрела, поняла себя. Она была охвачена единодушным желанием устройства, освящения и освежения всей своей жизни. Она уже нашла свою твёрдую основу в двенадцати Земских соборах царя Михаила. Такой она приблизилась и к временам царя Алексея.
Тишайший царь как бы только длил тихую весну, какая стала на Руси со светлых дней царя Михаила, и своими Уложениями, в общем движении к устройству Дома Московского, желая всё уладить и в Московской Церкви.
Но с крутым самовластием Никона церковное Уложение обернулось духовным разложением, исправление — искажением, перемена — изменой. Никонианство для крепких московских людей обернулось предательством самой Христовой Руси.
Именно Никон расколол народное единодушие, вынесенное из Смуты, рассёк душу народа смутой духовной. И те, кого отсекли, откололи «новины», с вещей силой почуяли в «чёрном Никоне» дуновение жесточайшей бури «чёрного бритоусца Петра», конечное потоптание Московии, забвение народом его призвания о преображении Отчего Дома в светлый Дом Богородицы. Они поняли, что так суждено померкнуть самому духу Святой Руси. С какой нестерпимой болью поняли они, что Никон нанёс удар по самому глубокому, последнему, что есть у народа, — по его вере.
За русскую веру, как они её понимали, заблуждаясь или не заблуждаясь, за русскую душу, за дух Святой Руси они и пошли на дыбы и в костры.
Из Смутных времён Русь вышла единодушной. Но после духовной смуты, поднятой Никоном, не нашла она единодушия и до наших дней.
Можно представить, как в доме стольника Морозова молодёжь, родня Федосьи Прокопьевны и она сама, слушали огненные речи Аввакума.
Он-то весь — как сверкание последней молнии московской, как один вопль о спасении Руси, об отведении чудом Божиим сокрушительного занесённого над Русью удара. Аввакум уже предвидел за Никоном кнут и дыбы Петра. И вещий клёкот его тревоги передался молодой боярыне.
Морозова переняла его святую тревогу.
Весь мир весёлой и простодушной молодой женщины, знатной боярыни, большой московитки, был потрясён. Аввакумовы зарницы осветили ей всё: Русь зашаталась в вере, гибнет. И жизнь стала для неё в одном: как спасти Русь, отдавши для того, когда надо, и себя.
Последнее допетровское поколение, последняя молодая Московия — такие, как Федосья Морозова, или княгиня Евдокия Урусова, или их брат Алексей Соковнин, — вошли в Никонову смуту, и в ней, как и последнее поколение старой России, погибли в истязаниях и пытках смертельной борьбы за Русь.
Что видели кругом глаза молодой боярыни?
Над Московией, по слову одного современника, воскурилась великая буря. Духовная гроза потрясла всех. Московия билась, как в чудовищной лихорадке-огневице, захлебнулась в клокочущих спорах, стала исходить бешенством духовной распри.
Вся Москва сотряслась от воплей, споров. Всюду — в избах, хоромах, в церквах, на мостах, в Китай-городе, на Пожаре — вопили, исходили яростью, больше не понимая друг друга, спорящие о вере, о Никоне, о перстах, аллилуе, сколько просфор выносить за обедней, сколько концов у креста, как писать Иисус, о жезлах и клобуках, и как стали Троицу четверить, и как звонить церковные звоны [146].
Точно всю душу Московии перетряхнуло. Распря шла о словах, о буквах, о клобуках, а желали понять и защитить самую Русь, с её праотеческой верой, старым крестом и старой молитвой.
Страшная смута духа перекатывалась тяжёлыми валами от торжищ и корчемниц до дворца, где клекотали много дней о вере, а с Софьей, царь-девицей, когда стал мутить Девичий терем, закачало всё царство, и хлынула наконец, страшным стрелецким бунтом.
И рухнула у ног Петра в утро стрелецкой казни, когда Московия с зажжёнными свечами сама пела себе отходную над виселицами и пыточными колёсами. Рухнула и растеклась, как будто исчезла.
Нет, не исчезла, но вбилась, глубоко и глухо, как клин, в каждую русскую душу.
У боярыни Морозовой родился сын, его нарекли Иваном. Но радость материнства не победила, не утишила нестерпимой тревоги за Русь.
Морозова точно ищет, чем спасти Русь от всего, что надвинулось на неё, и, как все люди, ставшие за старую Русь, не знает другого спасения, кроме молитвы. Молодая боярыня, можно сказать, пришла к молитве. Суровым обрядом, истовым чином, она точно желает огородиться от потемневшего мира, так чает вымолить Светлую Русь.
— Пора нам, наконец, понять, в чём наши московские отцы полагали силу обряда: молящийся обрядом воплощает дух, как бы оформляет его, как бы преображает обрядом жизнь вокруг себя, отодвигает всю небожественную, нестройную, неистовую стихию мира, заполняя вокруг себя всё божественной стройностью, истовостью обряда, чина, каждочасной молитвы.
В доме Морозова шли самые суровые долгие службы, правила, чтения. Боярыня замкнулась в монастырском домашнем обиходе.
Особенно заговорили о том на Москве после смерти ее мужа, в 1662 году.
Ей ещё не было тридцати, когда она стала домодержицей, матёрой вдовой [147]. Потомка ослепит невольно пышная византийская мощь, тяжкое великолепие большой и богатой московской боярыни, звенящей от кованого золота и драгоценных камней.
«Друг мой милый, Федосия Прокопьевна, — напишет позже о тех её временах Аввакум. — Была ты вдова честная, в верху чина царева, близ царицы. В дому твоему тебе служило человек с триста. Ездила ты по Москве в карете дорогой, украшенной мусией и серебром, на аргамаках многих, по шести и двенадцати запрягали, с гремячими цепями, за тобой слуг, рабов и рабынь шло иногда и триста тридцать, оберегая честь твою и здоровье…»