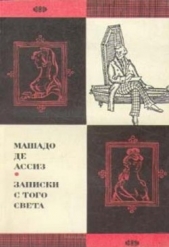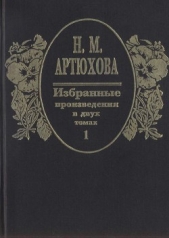Избранные произведения
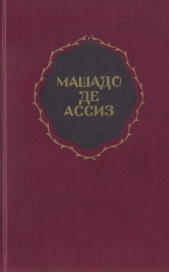
Избранные произведения читать книгу онлайн
Жоакин Мария Машадо де Ассиз — бразильский классик XIX века, зачинатель критического реализма в бразильской литературе. В состав «Избранных произведений» вошли романы «Записки с того света» и «Дон касмурро», стихотворения и новеллы, рассказывающие о жизни современного провинциального общества, судьбы героев которого, как правило, завершаются крахом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не думайте, что мне просто захотелось покататься в экипаже, хотя я и любил кататься. Когда я был маленький, мы с матерью часто ездили на двуколке в гости или с визитами, а если шел дождь, то и к мессе. Мать никак не хотела расстаться с повозкой, принадлежавшей еще моему отцу. Правил лошадьми слуга, такой же старый, как и экипаж; когда я в ожидании мамы стоял у ворот, он говорил мне, смеясь:
— Папаша Жоан повезет маленького хозяина!
А я неизменно предостерегал его:
— Жоан, поезжай потихоньку, не гони…
— Нья [95] Глория не любит медленной езды.
— Пожалуйста, не гони!
Конечно, я просил об этом, чтобы подольше насладиться ездой в двуколке, а не из желания покрасоваться: устройство ее все равно не позволяло видеть, кто в ней едет. Это была узкая и короткая старинная карета на двух колесах с кожаными занавесками спереди — они отодвигались в сторону, когда мы садились в экипаж или выходили из него. В каждой занавеске было по стеклянному глазку, через которые я любил смотреть на улицу.
— Сядь, Бентиньо!
— Дай поглядеть, мама!
И, приподнявшись на цыпочки, — я был еще очень мал ростом, — приникал лицом к стеклу. Кучер в огромных сапогах сидел верхом на одном муле и держал в поводу другого; в руках у него был толстый длинный кнут. И сапоги, и кнут, и мулы выглядели несколько странно, но кучер от души радовался поездке, да и я тоже. Мелькали дома, лавки и магазины, по улице сновали пешеходы; они переходили дорогу, кто шагал широко, кто мелкими шажками. Когда экипажу преграждали путь, он останавливался, и тогда зрелище становилось особенно интересным; прохожие глядели на повозку и переговаривались, — несомненно, речь шла о том, кто в ней едет. Мне даже казалось, что они узнают нас и говорят: «Это сеньора с улицы Матакавалос, у которой есть сын Бентиньо…»
Двуколка так подходила к нашему старомодному образу жизни, что мы продолжали ездить в ней, когда таких повозок совсем не осталось, и на нашей улице и во всем городе ее называли «древней двуколкой». Наконец мать Скрепя сердце решила отказаться от нее, но распростилась с каретой не сразу; она продала ее, лишь когда расходы по конюшне оказались слишком большими. Моя мать берегла эту бесполезную вещь из сентиментальности, в память о муже. Все, хоть сколько-нибудь имеющее отношение к моему отцу, сохранялось как символ его чистой и цельной души. Привычка переросла в причуду, в чем мать сама признавалась друзьям. Она хранила верность старым обычаям, старым манерам, старым идеям, старым модам. В качестве реликвий у нее лежали сломанные гребни, обрывки мантильи, медные монеты, выпущенные в 1824 и 1825 годах. Для полноты картины моя мать хотела бы состариться и сама, но, как я уже говорил, в этом ей не удавалось добиться успеха.
Глава LXXXVIII
БЛАГОВИДНЫЙ ПРЕДЛОГ
Нет, мысль отправиться на похороны возникла совсем не оттого, что мне вспомнились приятные прогулки в экипаже. Причина была другая. Если мне разрешат присутствовать на похоронах, я не пойду в семинарию и смогу еще раз увидеть Капиту и побыть с ней подольше. Такова была главная причина, а воспоминание об экипаже явилось попутно. Я уже мечтал, как возвращусь на улицу Инвалидов «справиться о здоровье сеньориты Санши». Мне казалось, что все получится, как в прошлый раз, — расстроенный Гуржел уйдет, оставив Капиту со мной, она возьмет меня за руку…
— Надо отпроситься у мамы.
Я отворил калитку. В ушах все еще раздавались причитания отца и матери покойного, и, закрывая за собой калитку, я вполголоса повторил:
— Бедный Мандука!
Глава LXXXIX
ОТКАЗ
Мать была поражена, когда я спросил разрешения отправиться на похороны.
— А как же занятия?..
Я твердил ей о нашей дружбе с Мандукой, о том, что родители его — люди бедные… Я привел все доводы, какие только пришли в голову. Тетушке Жустине не понравилась моя просьба.
— Вы думаете, ему не следует идти? — спросила моя мать.
— По-моему, нет. Что это за дружба, о которой никто не знал?
Тетушка победила. Когда я рассказал обо всем Жозе Диасу, он с улыбкой заметил, что кузина, вероятно, желала лишить похороны «моего блистательного присутствия». В тот момент слова его рассердили меня. На другой день я размышлял о них уже с некоторым удовлетворением, а позднее стал вспоминать с большим удовольствием.
Глава XC
ПОЛЕМИКА
На следующий день я прошел мимо дома покойника не останавливаясь, а если и задержался около, то лишь на мгновение, еще более краткое, чем то, в которое об этом рассказываю. Я очень торопился, опасаясь, что меня окликнут, как накануне. Раз уж мне не удалось попасть на похороны, лучше держаться подальше. Я шел и Думал о бедном Мандуке.
Он не был моим близким другом. Да и что общего могло быть у нас? Здоровью и болезни всегда не по пути. Знакомство наше было недолгим и весьма поверхностным. Все оно в общем сводилось к полемике, разгоревшейся по поводу… Вы не поверите, — поводом послужила Крымская война…
Болезнь приковала Мандуку к постели, он был обречен на медленное разложение. По воскресеньям отец надевал на него темную рубашку и переносил в глубину лавки, откуда он мог видеть часть улицы и сновавших по ней прохожих. В этом заключалось его единственное развлечение. Я видел его однажды в лавке и очень испугался; проказа уже начала разрушать тело Мандуки, пальцы скрючились; зрелище, разумеется, не из приятных. Мне тогда исполнилось четырнадцать лет. Во второй раз, когда я встретился с Мандукой, разговор зашел о Крымской войне, о которой тогда писали во всех газетах. Мандука считал, что англичане и французы непременно одержат победу, я с ним не соглашался.
— Посмотрим, — возразил он. — Если только в этом мире есть справедливость, победят союзники.
— Нет, по-моему, — правда на стороне русских.
Все сведения о войне мы почерпнули из городских газет, но, возможно, у каждого сложилось собственное мнение в соответствии с нашими характерами. Я всегда был сторонником московитов, Мандука, напротив, симпатизировал союзникам; встретившись в следующее воскресенье, мы снова заговорили о волновавшем нас вопросе. Он предложил мне переписываться, и дня через два я получил от него длинное послание, в котором говорилось о правах союзников и неприкосновенности Турции. Заканчивалось оно пророческими словами:
«Русские никогда не войдут в Константинополь!»
Я тотчас принялся за ответ. Не помню ни одного из своих доводов, да сейчас это и не представляет интереса, однако в то время они казались мне неопровержимыми. Я сам отправился к Мандуке. Меня ввели в спальню, где он лежал, вытянувшись на постели, едва прикрытый лоскутным одеялом. То ли в увлечении спором, то ли еще по какой-нибудь причине — я не испытал отвращения при виде больного. Изъеденное проказой лицо Мандуки осветилось улыбкой. Невозможно передать, с какой уверенностью в своей правоте приготовился он опровергать мои доводы, еще не зная, в чем они состоят. Около постели у него лежали наготове бумага, перо и чернила. Через несколько дней я получил ответ; в нем не содержалось ничего нового, разве что горячность его возросла, а вывод остался тот же:
«Русские никогда не войдут в Константинополь!»
Я тоже ответил, и началась у нас яростная полемика: ни один не хотел сдаваться, и каждый с блеском защищал свои взгляды. Мандука писал быстрее, чем я. И это вполне естественно; меня отвлекали тысячи вещей — уроки, перемены, семья; само здоровье призывало к другим занятиям. А сын лавочника мог лишь разглядывать улицу в воскресный вечер да размышлять о Крымской войне, событии мирового значения. Случай послал ему собеседника, и Мандука, находя удовольствие в самом процессе письма, весь отдался спору, словно новому радикальному лечению. Грустные долгие часы пролетали незаметно, глаза его разучились плакать. Перемена в больном отразилась на отношении ко мне его родителей.