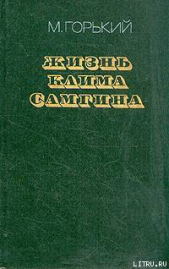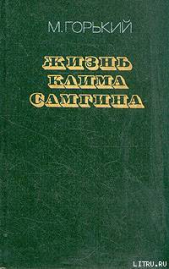Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая

Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая читать книгу онлайн
15 марта 1925 года М. Горький писал С. Цвейгу: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького). «...Очень поглощен работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции, – писал М. Горький ему же 14 мая 1925 года. – Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького).
«...Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни. Большая – измеряя фунтами – книга будет, и сидеть мне над нею года полтора. Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го» (Архив А. М. Горького).
Высказывания М. Горького о «Жизни Клима Самгина» имеются в его письмах к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, относящихся к 1927 году, когда первая часть романа только что вышла в свет. «В сущности, – писал М. Горький, – эта книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле...» (из письма от 16 августа. Архив А. М. Горького).
И немного позднее:
«Вы, конечно, верно поняли: Самгин – не герой» (из письма от 8 сентября 1927 года. Архив А. М. Горького).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Откуда это ты взял? Откуда? Ведь не сам выдумал, нет? – оживленно, настойчиво, с непонятной радостью допрашивал Лютов, и снова размеренно, солидно говорил хромой:
– Не сам, это – правильно; все друг у друга разуму учимся. В прошлом годе жил тут объясняющий господин... Клим подумал:
«Объясняющий господин? Очень хорошо!»
– Так он, бывало, вечерами, по праздникам, беседы вел с окрестными людями. Крепкого ума человек! Он прямо говорил: где корень и происхождение? Это, говорит, народ, и для него, говорит, все средства...
– Ты его в поминание записать должен. Записал?
– Шутите. Мы и своих-то покойников забываем поминать.
– А он – помер?
– Этого не знаю...
Придя домой, Самгин лег. Побаливала голова, ни о чем не думалось, и не было никаких желаний, кроме одного: скорее бы погас этот душный, глупый день, стерлись нелепые впечатления, которыми он наградил. Одолевала тяжелая дремота, но не спалось, в висках стучали молоточки, в памяти слуха тяжело сгустились все голоса дня: бабий шепоток и вздохи, командующие крики, пугливый вой, надсмертные причитания. Горбатенькая девочка возмущенно спрашивала:
«Да – что вы озорничаете?»
Уже темнело, когда пришли Туробоев, Лютов и сели на террасе, продолжая беседу, видимо, начатую давно. Самгин лежал и слушал перебой двух голосов. Было странно слышать, что Лютов говорит без выкриков и визгов, характерных для него, а Туробоев – без иронии. Позванивали чайные ложки о стекло, горячо шипела вода, изливаясь из крана самовара, и это напомнило Климу детство, зимние вечера, когда, бывало, он засыпал пред чаем и его будил именно этот звон металла о стекло.
На террасе говорили о славянофилах и Данилевском, о Герцене и Лаврове. Клим Самгин знал этих писателей, их идеи были в одинаковой степени чужды ему. Он находил, что, в сущности, все они рассматривают личность только как материал истории, для всех человек является Исааком, обреченным на заклание.
«Нужно иметь какие-то особенные головы и сердца, чтоб признавать необходимость приношения человека в жертву неведомому богу будущего», – думал он, чутко вслушиваясь в спокойную речь, неторопливые слова Туробоева:
– Среди господствующих идей нет ни одной, приемлемой для меня...
Быстро забормотал Лютов, сначала невозможно было разобрать, что он говорит, но затем выделились слова:
– У народников сильное преимущество: деревня здоровее и практичнее города, она может выдвинуть более стойких людей, – верно-с?
– Возможно, – сказал Туробоев.
Клим подумал, что, наверное, он, отвечая, приподнял левое плечо, как всегда делал, уклоняясь от прямого ответа на вопрос.
– А все-таки – половинчатость! – вскричал Лютов. – Все-таки – потомки тех головотяпов, которые, уступив кочевникам благодатный юг, бежали в леса и болота севера.
– Кажется, вы противоречите себе...
– Нет, позвольте-с! Вы-то, вы-то как же? Ведь это ваши предки...
Тяжело затопала горничная, задребезжала чайная посуда. Клим встал, бесшумно приоткрыл окно на террасу и услышал ленивенькие, холодные слова:
– Я, конечно, не думаю, что мои предки напутали в истории страны так много и были так глупо преступны, как это изображают некоторые... фабриканты правды из числа радикальных публицистов. Не считаю предков ангелами, не склонен считать их и героями, они просто более или менее покорные исполнители велений истории, которая, как вы же сказали, с самого начала криво пошла. На мой взгляд, ныне она уже такова, что лично мне дает право отказаться от продолжения линии предков, – линии, требующей от человека некоторых качеств, которыми я не обладаю.
– Это – что же? – взвизгнул Лютов. – Это – резиньяция? Толстовство?
– Помнится, я уже говорил вам, что считаю себя человеком психически деклассированным... Раздались шлепающие шаги.
– Что – умер? – спросил Туробоев, ему ответил голос Макарова:
– Разумеется. Налей чаю, Владимир. Вы, Туробоев, поговорите с урядником еще; он теперь обвиняет кузнеца уже не в преднамеренном убийстве, а – по неосторожности.
Самгин отошел от окна, причесался и вышел на террасу, сообразив, что, вероятно, сейчас явятся девицы.
Огонь лампы, как бы поглощенный медью самовара, скупо освещал три фигуры, окутанные жарким сумраком. Лютов, раскачиваясь на стуле, двигал челюстями, чмокал и смотрел в сторону Туробоева, который, наклонясь над столом, писал что-то на измятом конверте.
– Почему ты босый? – спросил Клим Макарова, – тот, расхаживая по террасе со стаканом чая в руке, ответил:
– Сапоги в крови. Этому парню...
– Ну, довольно! – сказал Лютов, сморщив лицо, и шумно вздохнул: – А где же существа второго сорта?
Он перестал качаться на стуле и дразнящим тоном начал рассказывать Макарову мнение хромого мужика о женщинах.
– Мужик говорил проще, короче, – заметил Клим. Лютов подмигнул ему, а Макаров, остановясь, сунул свой стакан на стол так, что стакан упал с блюдечка, и заговорил быстро и возбужденно:
– Вот – видишь? Я же говорю: это – органическое! Уже в мифе о сотворении женщины из ребра мужчины совершенно очевидна ложь, придуманная неискусно и враждебно. Создавая эту ложь, ведь уже знали, что женщина родит мужчину и что она родит его для женщины.
Туробоев поднял голову и, пристально взглянув на возбужденное лицо Макарова, улыбнулся. Лютов, подмигивая и ему, сказал:
– Интереснейшая гипотеза российской фабрикации!
– Это ты говоришь о вражде к женщине? – с ироническим удивлением спросил Клим.
– Я, – сказал Макаров, ткнув себя пальцем в грудь, и обратился к Туробоеву:
– Та же вражда скрыта и в мифе об изгнании первых людей из рая неведения по вине женщины.
Клим Самгин улыбался и очень хотел, чтоб его ироническую улыбку видел Туробоев, но тот, облокотясь о стол, смотрел в лицо Макарова, высоко подняв вышитые брови и как будто недоумевая.
– Счастливый ты младенец, Костя, – пробормотал Лютов, тряхнув головою, и стал разводить пальцем воду по медному подносу. А Макаров говорил, понизив голос и от возбуждения несколько заикаясь, – говорил торопливо:
– Вражда к женщине началась с того момента, когда мужчина почувствовал, что культура, создаваемая женщиной, – насилие над его инстинктами.
«Что он врет?» – подумал Самгин и, погасив улыбку иронии, насторожился.
Макаров стоял, сдвинув ноги, и это очень подчеркивало клинообразность его фигуры. Он встряхивал головою, двуцветные волосы падали на лоб и щеки ему, резким жестом руки он отбрасывал их, лицо его стало еще красивее и как-то острей.
– Оседлую и тем самым культурную жизнь начала женщина, – говорил он. – Это она должна была остановиться, оградить себя и своего детеныша от зверей, от непогоды. Она открыла съедобные злаки, лекарственные травы, она приручила животных. Для полузверя и бродяги самца своего она постепенно являлась существом все более таинственным и мудрым. Изумление и страх пред женщиной сохранились и до нашего времени, в «табу» диких племен. Она устрашала, своими знаниями, ведовством и особенно – таинственным актом рождения детеныша, – мужчина-охотник не мог наблюдать, как рожают звери. Она была жрицей, создавала законы, культура возникла из матриархата...
Вокруг лампы суетливо мелькали серенькие бабочки, тени их скользили по белой тужурке Макарова, всю грудь и даже лицо его испещряли темненькие пятнышки, точно тени его торопливых слов. Клим Самгин находил, что Макаров говорит скучно и наивно.
«Держит экзамен на должность «объясняющего господина».
Вспомнив старую привычку, Макаров правой рукой откручивал верхнюю пуговицу тужурки, левая нерешительно отмахивалась от бабочек.
– Кстати, знаете, Туробоев, меня издавна оскорбляло известное циническое ругательство. Откуда оно? Мне кажется, что в глубокой древности оно было приветствием, которым устанавливалось кровное родство. И – могло быть приемом самозащиты. Старый охотник говорил: поял твою мать – молодому, более сильному. Вспомните встречу Ильи Муромца с похвалыциком...