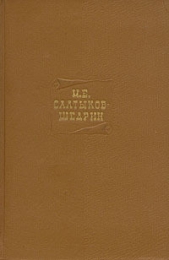Дневник провинциала в Петербурге

Дневник провинциала в Петербурге читать книгу онлайн
В романе-хронике «Дневник провинциала» фантасмагорические картины «водевильно-распутной жизни» Петербурга, его чиновной и журналистской братии, либеральствующей «по возможности» и стремительно развивающейся к «чего изволите», создают «трезвую картину» пореформенной эпохи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В данном случае нельзя не согласиться с той оценкой русской журналистики, которую дала, подводя итоги 1872 года, газета "Русский мир": "…предметом газетных и журнальных суждений являлись по преимуществу вопросы второстепенного и частного значения, причем нельзя было не заметить, что большинство газет даже и об этих вопросах высказывалось весьма уклончиво и поверхностно, как бы опасаясь углубиться до той почвы, на которой суждение о частном явлении действительности переходит в спор о принципе" (1873, Э 5, 6 января).
Щедринские пенкосниматели – Неуважай-Корыто и Болиголова, досконально исследующие, "макали ли русские цари в соль пальцами, или доставали оную посредством ножа", публицисты Нескладин и Размазов – все они хором издают какое-то непрерывное монотонное жужжанье убаюкивающего свойства и превосходно выполняют пожелание автора упомянутого консервативного прожекта "О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств": "Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний".
Ядовитое разоблачение пенкоснимательства сделано Салтыковым в той части "Дневника", где провинциал, думающий, будто он находится под арестом по политическому обвинению, решает скрасить свой досуг сочинением статей для газеты Менандра.
Кстати, в способности писать на любую тему (об оспопрививании, о совмещении огородничества с разведением козлов, о геморрое, о Тибулловой Делии, и т. д.) есть нечто от ташкентской готовности "устремиться куда глаза глядят" и повсюду чувствовать себя специалистом.
Но дело даже не в этом. "Я, – рассказывает провинциал, – упивался моей новой деятельностью, и до того всерьез предался ей, что даже забыл и о своем заключении…" (Курсив мой. – А. Т.)
Так пенкосниматель приходит к полнейшему согласию с действительностью, которая нисколько не препятствует разработке излюбленных им тем и сюжетов. Он создает как раз ту "литературу", о которой метко выразился в своем дневнике А. В. Никитенко: "Хотеть иметь литературу, какую нам хочется, то есть Управлению по делам печати, значит не иметь никакой". [185]
Однако щедринское пенкоснимательство не сводится к фотографически точному отображению тогдашнего российского либерализма (при всем разительном сходстве многих их проявлений) и, разумеется, не претендует на историческое осмысление всего этого направления в русской общественной мысли и движении.
Тридцать лет спустя В. И. Ленин призывал "поддерживать всякую оппозицию гнету самодержавия, по какому бы поводу и в каком бы общественном слое она ни проявлялась… Сумеют либералы сорганизоваться в нелегальную партию, тем лучше, мы будем приветствовать рост политического самосознания в имущих классах, мы будем поддерживать их требования, мы постараемся, чтобы деятельность либералов и социал-демократов взаимно пополняла друг друга. Не сумеют – мы и в этом (более вероятном) случае не "махнем рукой" на либералов, мы постараемся укрепить связи с отдельными личностями, познакомить их с нашим движением, поддержать их посредством разоблачения в рабочей прессе всех и всяких гадостей правительства и проделок местных властей, привлечь их к поддержке революционеров". [186]
Сатирический образ "пенкоснимателей" выявил наиболее вредные тенденции русского либерализма, его "готовности", послужил предупреждением о том, что они приведут его к откровенному прислужничеству "хищникам".
С этих пор особенно усиливается та ветвь щедринского творчества, которая посвящена прослеживанию эволюции либерализма.
Конечно, Салтыков больше, чем кто иной, знал тяжесть положения подцензурного русского публициста "с длинными, запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчивыми и темными, вследствие усилий высказать их как можно яснее". Поэтому, еще раз возвращаясь к судьбе Менандра, он высказал догадку, что "это индивидуумы подневольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке".
Извиняющийся голос этого "индивидуума" слышится нам и теперь, когда мы перечитываем некоторые строки либеральной прессы того времени. Вот характерное место из передовой "С.-Петербургских ведомостей" (1872, Э 109, 22 апреля).
"Общественная жизнь, подобно морю, имеет свои приливы и отливы… Факт тот, что начался период отлива; море… далеко отошло от берега, и, гуляя на этом берегу, мы можем только любоваться на то, что выброшено великой стихией, на все эти раковины, морские растения, креветки и бочком двигающихся раков.
Удел публицистики в период отлива, преимущественно, исследовать все эти frutti di mare. [187] Рыболовами, забирающими в свои сети то, что выбрасывается русским житейским морем, пришлось быть преимущественно органам нового нашего суда".
Положение Салтыкова было не лучше. Напротив, значительно труднее. Изображение многих драматических событий русской действительности было для него, подцензурного писателя революционно-демократического лагеря, недоступно, хотя и общественный темперамент и совесть диктовали необходимость выступления по этим животрепещущим вопросам.
Однако та "принципиальная почва", которую он никогда не покидал, давала ему возможность, обращаясь даже к "легальным" явлениям, так сопоставлять и творчески преображать их, чтобы из россыпи разрозненных фактов возникла трезвая картина жизни, содержащая в себе бескомпромиссный приговор самодержавному строю.
Так, скандальное "мясниковское дело", фигурировавшее во всех газетах, послужило сюжетной основой для "сна" провинциала.
Но Салтыков глубоко обобщил все происшедшее на процессе. Он не видел в этом деле "невинно пострадавшихх". Ни откупщик Беляев, ни Караганов, ни Мясниковы не являлись для писателя каким-либо исключением: в них просто наиболее резким образом выявились черты беспринципной погони за наживой, и оправдание преступников выглядело в его глазах как солидарность хищников между собой.
Салтыков остроумно воспользовался прозвучавшей в речи прокурора апелляцией к "суду общественной совести" в противовес "суду общественного мнения". Он увидел в этом возможность показать истинное лицо тогдашнего общества, освобожденное от лицемерно соблюдаемых приличий. "Странные вопросы", которые предлагаются в сновидении провинциала на разрешение присяжных – "согласно ли с обстоятельствами дела" поступил Прокоп и не поступили бы точно так же истцы, родственники покойного, предельно обнажают ту точку зрения, с которой взирает общество "хищников" и "ташкентцев" на происшедшее.
Перенос "дела Мясниковых" для нового рассмотрения в Московский окружной суд и очередное оправдание обвиняемых оборачиваются в книге Салтыкова фантастическим решением кассационного суда слушать дело Прокопа во всех городах России. Таким образом, происходит как бы своеобразный референдум, обнаруживающий аморальность общественных верхов.
Несмотря на внешнее положение подсудимого, Прокоп делается одним из самых популярных людей, и его путешествие по России выглядит как воцарение нового властителя – хищника, принимаемого обществом с раболепным восторгом.
Это путешествие длится годы, а положение России за это время фактически не меняется, благодаря черепашьей поступи "постепенного прогресса", ради сохранения которого либералы призывали не торопиться.
Таков очевидный результат той политической тактики, которую открыто осудил Салтыков в том же "Дневнике".
При всей беспощадности щедринской сатирической критики либерализма поучительно сопоставить ее с той, какую мы находим в романе Достоевского "Бесы", который появился почти одновременно с "Дневником провинциала".