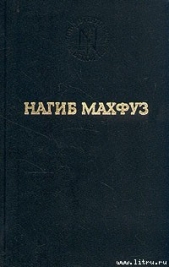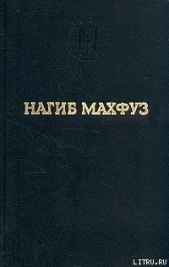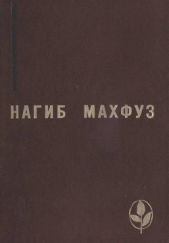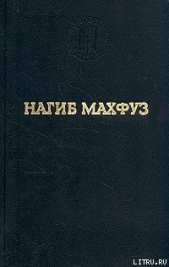Пастораль сорок третьего года

Пастораль сорок третьего года читать книгу онлайн
В книгу известного голландского писателя Симона Вестдейка вошел роман «Пастораль сорок третьего года».
Оптимизм, вера в конечную победу человека над злом и насилием — во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах, — несомненно, составляют наиболее ценное ядро во всем обширном и многообразном творчестве С. Вестдейка и вместе с выдающимся художественным мастерством ставят его в один ряд с лучшими представителями мирового искусства в XX веке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он сознавал, что подобные размышления свидетельствовали о некотором эгоизме, об «индивидуализме», по определению Ван Дале — Ван Дале, который в нормальных довоенных условиях тоже был не таким уж коллективистом. Но так уж получилось: война изменила людей еще до применения пыток. Они становились трусами, храбрецами, индивидуалистами, коллективистами, прикрывались флагами, которые могли замаскировать истинное нутро. Честно говоря, все свелось к тому, что люди, подобные ему — а также Ван Дале, и Кохэну, и многим другим, — своим воспитанием не были подготовлены к тому, чтобы достойно встретить натиск варваров. Они были неопытны, никто из них никогда не предполагал, что придется мериться силами с мофами; они только изучали мофов (Канта), слушали мофов (Вагнера) или смотрели на них, путешествуя по Рейну. Они напоминали лягушек в стоячем болоте, которым вдруг пришлось одеться в броню для защиты от ястребов: они так и не смогли, метко нацелившись, прыгнуть и вцепиться врагам в горло, они вынуждены были уйти в подполье, тихо и незаметно спрятаться в своей луже и ждать, что будет дальше. И если они попадали в тюремную камеру, то, несмотря на броню, неизбежно погружались в мысли о своей маленькой лягушачьей жизни, которая, оказывается, не имела большой цены, и снова становились индивидуалистами, страшащимися боли и дрожащими за честь своих драгоценных лягушачьих ягодиц.
Итак, прочь индивидуализм. Но когда он заставлял себя размышлять об общих материях — нормах морали, жизни других людей, — его начинала мучать совесть, а совесть, видимо, самое индивидуалистическое, что есть на свете: лягушонок в лягушке, который не только отказывался от брони, но и неожиданно прыгал в лужи позора, греха и легкомыслия. Этот хитрый зеленый звереныш прыгнул, например, на Мийс Эвертсе и избрал ее объектом бессердечного издевательства. Это было грехом, так как и у агента гестапо есть душа, чувство женской гордости, и если хорошенько подумать, то именно осведомительница гестапо наиболее уязвима из-за угрызений собственной совести. И если ей приходилось к тому же терпеть жестокие насмешки от мужчины, то это оказалось сверх сил такого тонко сплетенного организма из крови и нервов, с рыбьими руками и хитро устроенными внутренностями, которые в страхе сокращались при малейшем прикосновении. Но страшнее, гораздо страшнее, чем грех по отношению к Мийс Эвертсе, был грех по отношению к Иогану Схюлтсу, участнику Сопротивления, который желал близости с Мийс Эвертсе (пусть редко и мимолетно), рискуя при этом своей личной безопасностью, которая была равносильна безопасности Голландии, союзников, Монтгомери, Сталина! И это бесчестное распутство, хотя и только в мыслях, было позором, который сможет смыть лишь жесточайшая пытка. Сто ударов!
Схюлтс чувствовал, что его угрызения совести, связанные с Мийс Эвертсе, преувеличены, ненормальны. В конце концов, Мийс Эвертсе не умерла от его насмешек. Другое дело Пурстампер. Пурстампера убил он. Оправдать его поступок можно десятком причин: можно даже утверждать, что он имел право убить Пурстампера; он взял себе это право, а что берешь, то и имеешь. Ни человек, ни бог, ни закон не могли лишить его этого права, пока он убежден, что оно у него есть. Но такими рассуждениями совесть не успокоишь: она интересовалась не понятиями «иметь» и «брать», а лишь фактами и уликами. Совесть упрекала его в том, что он причинил Пурстамперу горе и страдание. Хаммер считал, что энседовцев можно спокойно убивать от имени нидерландского народа, и безразлично, как это назвать; месть, кара, убийство, исполнение приговора или ликвидация, ибо энседовец — ничто, хуже комара или вши. Прав ли Хаммер? Прав ли Ван Дале со своими юридическо-террористическими рассуждениями? Прав ли Баллегоойен, требовавший отпущения грехов Пурстамперу, перед тем как ударить его по лицу? Схюлтс почти не сомневался, что его друзья неправы. Дело вот в чем: он смотрел Пурстамперу в глаза, но он не смотрел в глаза нидерландскому народу. Нидерландский народ — абстракция, а если не абстракция, то он состоял из таких людей, как Вим Уден, и Ян Бюнинг, и Кор Вестхоф, которые занимались перевозкой мебели, забивали овец, ненавидели евреев: как посмотреть в глаза народу! Это невозможно даже при всем желании. Пурстамперу же он смотрел в глаза в общей сложности не менее десяти раз, и последний раз, перед тем как выстрелить, в больнице, он видел в этих глазах доверие и блестевшие слезы, хотя он не понимал почему. Но из-за того, что он смотрел Пурстамперу в глаза, эти глаза стали частицей его самого, значит, он убил не только Пурстампера, но и себя лично; лягушонок-совесть настаивала на этом: и себя лично. Действительно ли Пурстампер предал Кохэна, большого значения не имело. Если даже и предал, то Схюлтс не мог сказать в свое оправдание, что убил Пурстампера (и самого себя) ради Кохэна, так как его поступок не принес Кохэну ни малейшей пользы. Он убийца и самоубийца, и потому, что он это знает — да еще тщеславно признается в этом самому себе, — он пытает сам себя и подвергнется пыткам. Сто ударов! Кровавые рубцы на его больших дурацких лягушачьих ягодицах; только маленький лягушонок, возможно, останется цел и невредим…
Так изводил он себя ночи напролет, засыпал ненадолго, прислушивался к ансамблю трубачей в носу Удена, с нетерпением ждал роттердамского поезда и зевка Яна Бюнинга. Если же он засыпал, то, проснувшись в поту и ворочаясь на тюфяке, старался вспомнить свои сны. Чаще всего ему снились сны химерические и страшные, но настроение, в которое они приводили его, казалось, не всегда соответствовало их содержанию, они часто приносили утешение тем, на что он, по его мнению, не имел права: прелестью, райским наслаждением или трагическим очищением. Перед ним стояла Мийс Эвертсе и спрашивала голосом надзирательницы: «Что у меня в правой руке?» И он должен был разжать протянутую ему руку, вялую рыбью руку с красными плавниками; он с энтузиазмом выполнял эту задачу, равносильную пытке; но когда ему наконец удалось разжать эту ужасную руку и взять находившийся в ней маленький резиновый мячик, то оказывалось, что он видел во сне свою мать и, проснувшись, помнил только это. Снилось также, что он совершал длительные прогулки с Пурстампером и философствовал с ним о распаде тел. Пурстампер говорил, что он настолько невиновен в развязывании войны, что его тело не распадется даже после смерти, как бы ни терзали его труп, и несмотря на то, что он был всю жизнь материалистом; потом появился Кохэн с гитлеровскими усиками, твердыми, как проволока, и поразил его своими национал-социалистскими взглядами, которые даже Пурстамперу казались слишком крайними. Этому сну сопутствовало настроение всеобщего счастья и братской верности. Иногда ему снилась Безобразная герцогиня, которая долгое время была «далекой возлюбленной» юного Бетховена, но бросила его за то, что он зарезал овцу и от него всегда пахло кровью. Вернувшись к Схюлтсу, она вопреки ожиданиям увлекалась не музыкой, а поисками места на его теле, при прикосновении к которому возникала бы смертельная боль; это место находилось то в левом боку, то на плече, то на бедре. Снилось ему еще, как он бежал в больницу, где должен был застрелить Пурстампера, лежавшего в изоляторе. Пурстампер бежал ему навстречу, дружески и вызывающе пожимал ему руку, бежал назад, удобно усаживался на параше и кричал голосом глашатая: «Hundert am Arsch! Я невиновен, подумайте о моих двух сыновьях, но в любом случае я хочу испытать это! И постарайся выстрелить первым, неужели Эскенс опять опередит тебя, идиот? Смотри, вот Эскенс!» И действительно, Эскенс в форме Организации Тодта носился по камере, гоняясь за призрачными женскими фигурами, которые прикрывались полотенцами 20 на 30 сантиметров. Пурстампер, все еще сидя на параше, кричал: «Ха, он опять схватил ее за гузку, опять, стреляйте же в них! Стреляйте! Стреляйте, черт побери! Стреляйте! Стреляйте!» Очнувшись от этого сна, пересказывать который не имело смысла, разве только в компании юмористов, он испытывал такое чувство, словно вмиг сможет улучшить мир — так легко, торжественно и блаженно было у него на душе.