Детство. В людях. Мои университеты

Детство. В людях. Мои университеты читать книгу онлайн
Вступительная статья Даниила Гранина. Иллюстрации Б. Дехтерева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос:
— Но почему же?
— Я уж читал об этом.
— О чем — об этом?
— О любви…
Прищурясь, она смеялась сахарным смешком.
— Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви!
Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позевывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплету книги на коленях у нее.
Мне хочется спросить: «Что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры всё пишут записки вам, смеются над вами…»
Но не хватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о «любви» и печальное разочарование в сердце.
На дворе говорят об этой женщине всё хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти россказни, грязные и, наверное, лживые; за глаза я жалею женщину, мне боязно за нее. Но когда, придя к ней, я вижу ее острые глазки, кошачью гибкость маленького тела и это всегда праздничное лицо, — жалость и страх исчезают, как дым.
Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж ее переменил квартиру.
Когда комнаты стояли пустые, в ожидании новых насельников, я зашел посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашеному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов и блестела большая медная булавка.
Мне стало грустно, захотелось еще раз увидать маленькую закройщицу, — сказать, как я благодарен ей…
X
Еще до отъезда закройщицы под квартирою моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красива; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от нее и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу ее квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконогого рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках, с раструбами, в желтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня, — он косился на нее огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной глине.
— Робэр, Ро-обэр, — негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.
Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шел по дамбе; она сидела в седле так ловко, точно приросла к нему.
Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на нее, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, [107] королева Марго, девица Ла-Вальер [108] и другие красавицы, героини исторических романов.
Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе, по вечерам у нее играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаще других около нее вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вел себя, как покорный, преданный слуга дамы.
Так же счастливо красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Ее огромные синеватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое.
Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо немым, и толстой, косоглазой горничной; няньки у ребенка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче бревен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснет, а я ее отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:
— Прощай до завтра! Бабушка, как нужно сказать?
— Храни тебя господь, — говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма.
— Храни тебя господь до завтра, а я уж буду спать, — повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом.
Бабушка внушала ей:
— Не до завтра, а — всегда!
— А разве завтра не всегда бывает?
Она любила слово «завтра», и всё, что нравилось ей, переносила в будущее; натыкает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит:
— Завтра это будет сад…
— Когда-нибудь завтра я тоже куп’ю себе ошадь и поеду верхом, как мама…
Она была умненькая, но не очень веселая, — часто во время оживленной игры вдруг задумается и спросит неожиданно:
— Зачем у священников во’осы, как у женщинов?
Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала:
— Смотри, я помо’юсь богу, так он сде’ает тебе очень п’охо. Бог всем может сде’ать п’охо — он даже маму может наказать…
Иногда на нее спускалась тихая, серьезная печаль; прижимаясь ко мне, глядя в небо синими ожидающими глазами, она говорила:
— Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает, она тойко смеется. Ее все юбят, потому что ей всегда некогда, всё приходят гости, гости, и смотрят на нее, потому что она красивая. Она — ми’ая, мама. И О’есов так говорит: ми’ая мама!
Мне страшно нравилось слушать девочку, — она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много, — предо мною тихонько открывалась новая жизнь, снова я вспоминал королеву Марго, это еще более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни.
Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на Откос, а девочка задремала на руках у меня, подъехала верхом ее мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила:
— Что́ это она — спит?
— Да.
— Вот как…
Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки:
— Дай мне ее!
— Я сам отнесу!
— Но! — крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца.
Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли.
Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит, — всякий послушает ее, если она даже и тихо прикажет.
Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная, — девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною.
Я, не без гордости перед матерью, вошел в гостиную, — девочка сидела на коленях матери, дама ловкими руками раздевала ее.
— Ну, вот, — сказала она, — вот он пришел, это чудовище!
— Это не чудовище, а мой майчик…
— Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?
— Да, хочу!
— Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать.
— Прощай до завтра, — сказала девочка, протянув мне руку. — Храни тебя господь до завтра…
Дама удивленно воскликнула:
— Кто это тебя научил — бабушка?
— Да-а…
Когда она ушла, дама поманила меня пальцем.
— Что же тебе подарить?
Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку?
Она приподняла мой подбородок горячими, душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой:
— Вот как, ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?
Улыбаясь, она стала еще красивее; я смущенно назвал ей несколько романов.
— Что же в них нравится тебе? — спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами.
От нее исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов, с ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво-серьезно, — до этой минуты никто еще не смотрел на меня так.

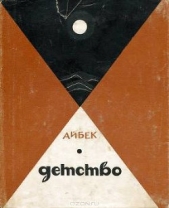

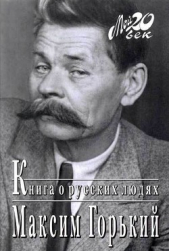

![Биограф[ия]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















