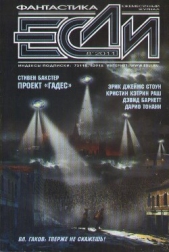Зеленый лик
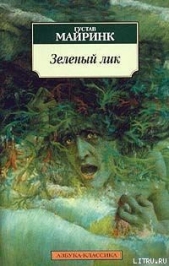
Зеленый лик читать книгу онлайн
Произведения австрийского прозаика Г. Майринка стали одними из первых бестселлеров ХХ века. Он – из плеяды писателей, которые сделали «пражскую школу» знаменитой. «Зеленый лик» – второй после «Голема» роман Майринка. Он также хранит в своей основе старинное предание. Место Голема в «Зеленом лике» занимает Агасфер, или Вечный Жид, который, согласно легенде, подгонял ударами несущего крест Спасителя, за что и был обречен на вечные скитания.
Перевод выполнен В. Фадеевым специально для издательства «Азбука-классика».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Предвестием наступающих последних времен из недр цирка раздавались то угрожающе близко и громко, то глухо, словно задушенные толстыми брезентовыми тентами, раскаты хриплого рева диких зверей и ударял в нос едкий запах звериного дыхания, парфюмерии, сырого мяса и конского пота.
По контрасту с увеселительной программой в памяти возникла картина, которую он однажды видел в бродячем зверинце: медведь, прикованный к решетке за левую лапу. Воплощение беспредельного отчаяния, он переступал с одной ноги на другую, и так беспрестанно, изо дня в день, из месяца в месяц. Спустя годы Хаубериссер вновь увидел его на какой-то ярмарке.
«Почему же ты тогда не выкупил его!» – настигла его мысль, которую он прогонял, наверное, сотню раз, но она продолжала преследовать его все с той же обжигающей ясностью самоупрека в тот миг, который выбирала сама, – нисколько не потускневшая и такая же беспощадная, как в первый раз, когда появилась, пусть даже была карликом, ничтожной невеличкой в сравнении с огромными промахами и потерями, оставляющими свои рубцы на человеческой жизни, и все же она оставалась единственной мыслью, неподвластной времени.
«Призраки неисчислимых множеств убитых и замученных тварей насылают на нас проклятия и взывают об отмщении! – От этой мысли сжалось на миг сердце Фортуната. – Горе нам, людям, если на Страшном суде душа хотя бы одной лошади будет нашим обвинителем. Почему я тогда не выкупил его!» Сколько раз он казнился этими горчайшими упреками и всякий раз заглушал их неизменным доводом: от освобождения медведя было бы не больше толку, чем от сдвига одной песчинки в пустыне. Но, с другой стороны, – он окинул мысленным взором всю свою жизнь – разве сделал он на своем веку что-то более значительное? Он корпел над книгами и света солнечного не видел, трудясь над созданием машин, он строил машины, давно превратившиеся в ржавый хлам, и потому упустил возможность помочь другим людям, чтобы хотя бы они нагляделись на солнце. Он лишь внес свою лепту в великую бессмыслицу и тщету.
Хаубериссер с трудом выбрался из напиравшей сзади толпы, кликнул извозчика и велел ехать прочь из города.
Им вдруг овладела щемящая тоска по упущенным летним дням.
Дрожки с мучительной медлительностью громыхали по мостовой, а солнце уже клонилось к закату. Не терпелось поскорее оказаться на вольном просторе, и от этого он становился еще раздражительнее.
Когда же взору открылась наконец уходящая вдаль равнина с заплатами сочной зелени меж коричневатых геометрически правильных каналов, когда он увидел островки, испещренные бесчисленными стадами коров, укрытых попонами для защиты от вечерней прохлады, а там и сям – голландских крестьянок в белых чепчиках, с выбивающимися латунно-желтыми завитками волос и ослепительно чистыми подойниками в руках – все это показалось ему картинкой на круглом боку голубоватого мыльного пузыря, а крылатые ветряные мельницы предстали черными крестами – первыми знаками грядущей вечной ночи.
Это было чем-то вроде галлюцинации, приснившейся страны, куда ему не следовало бы направлять свои стопы, так думалось ему, когда он ехал по узким дорожкам вдоль пастбищ, на всем пути отделенный от них алеющей в закатных лучах полоской воды.
Запах воды и сырых лугов лишь растворил его тревогу в чувстве тоски и неприкаянности.
Позднее, когда зелень померкла и над землей заклубился серебристый туман, а стада будто исчезли в дыму, у Фортуната возникло такое чувство, словно его голова – это тюрьма на плечах, а сам он ее узник, который через слепнущие оконца глаз всматривается в мир свободы, прощаясь с ним навсегда.
Город тонул в глубоком сумраке, сырой воздух дрожал от перезвона колоколов, грянувшего с бесчисленных причудливых башен, когда потянулись дома предместья. Он отпустил экипаж и пошел в сторону дома, где жил, шагая по многоколенным переулкам, вдоль городских каналов с чернеющими неуклюжими барками, сквозь смрад гниющих яблок и размокших отбросов, мимо фасадов под щипцовыми крышами со свисающими канатами лебедок, мимо их отражений в воде.
У входных дверей на стульях, вынесенных на улицу, сидели рядком мужчины, в синих широких штанах и красных блузах, тут же за починкой сетей чесали языки женщины, а по дороге носились ватаги детей.
Он ускорял шаг вблизи дверных проемов, откуда несло запахом рыбы, пота утомленных работой тел и убогого быта, спешил выйти на какую-нибудь площадь, хотя и на площадях чадили пригорелым жиром ларьки вафельщиков, и этот чад также втягивали в себя узкие переулки.
И на него тягостным грузом наваливалась вся безотрадная обыденщина голландского портового города с чисто вымытыми тротуарами и неописуемо грязными каналами, с молчаливыми обывателями, с беловатым переплетом маленьких раздвижных окон на узкогрудых фасадах, с тесными лавчонками, торгующими сырами и рыбой, запах которой не могла заглушить вонь керосина среди островерхих домов, покрытых почерневшей черепицей.
И его вдруг потянуло немедленно уехать из унылого Амстердама и вернуться в более веселые города, где он бывал и жил. Тамошнее бытие снова обрело для него свою чарующую силу – как, впрочем, всему былому свойственно казаться нам прекраснее и лучше настоящего, – но последние, крайне неприятные переживания, ожившие в нем, впечатления внешнего и внутреннего распада и неудержимого увядания тут же подавили ненароком проснувшуюся ностальгию.
Чтобы сократить путь, он прошел по чугунному мосту, ведущему в один из респектабельных кварталов, и пересек залитую светом, оживленную улицу с роскошными витринами, но стоило сделать еще несколько шагов – и город мгновенно изменил свой лик, Фортунат вновь оказался в непроглядной тьме какого-то переулка. Старая амстердамская Нес, печально известная улица проституток и сутенеров, которую смели несколько лет назад, вынырнула из небытия здесь, подобно мерзкой застарелой болезни, появившись в другой части города почти с тем же старым ликом, пусть и не таким грубым, но тем более ужасающим.
Все, кого извергли из своего лона Париж, Лондон, бельгийские и русские города, все, кто сломя голову первым же поездом покидал родину из страха перед революционной заварухой, собирались здесь, в этих «благородных» заведениях.
Проходя мимо них, Хаубериссер мог видеть, как автоматоподобные швейцары в долгополых синих сюртуках и треуголках, с жезлами, увенчанными медными набалдашниками, распахивают и закрывают двери, и всякий раз на тротуар падал сноп ослепительного света, и на секунду-другую из глубины помещения как из преисподней вырывался дикий хрип негритянского Джаза, гром цимбал или истерический захлеб цыганских скрипок.
А наверху, в комнатах второго и третьего этажей придерживались другого стиля жизни – там за красными гардинами творилось нечто негромкое, шепотливое, скрытное, как кошка в засаде. Кто-то изредка быстро пробарабанит пальцами по оконному стеклу, кто-то кого-то окликнет приглушенным голосом, торопливо и отрывисто, или послышится тихая речь на всех языках мира и все же очень прозрачная по смыслу; мелькнет чей-то торс в белой ночной рубашке, голова отрезана тьмой, но видны взмахи рук, и опять черный как деготь провал распахнутого окна и кладбищенская тишина, будто за этими стенами обитает смерть.
Угловой дом, которым заканчивалась улица, производил не столь зловещее впечатление, судя по налепленным на стенах афишкам, – нечто среднее между ресторанчиком и кафешантаном.
Хаубериссер вошел.
Перед ним был зал, полный публики, с круглыми, накрытыми желтыми скатертями столиками, за которыми ели и пили.
У задней стены – эстрада, где полукругом расположилась на стульях дюжина шансонеток и комиков, они сидели и ждали, когда придет их черед выступать.
Пожилой мужчина с шарообразным брюшком и шкиперской бородкой посверкивал выпученными накладными глазами, невероятно тонкие ножки в лягушачьего цвета трико заканчивались перепончатыми ластами, он шевелил ими, сидя рядом с французской куплетисткой в наряде парижской модницы и ведя с ней беседу о каких-то, по-видимому, очень важных вещах. Публика тем временем с непонимающим видом внимала ломаной немецкой речи одетого польским евреем комика в лапсердаке и высоких сапогах. Он держал в руке шприц, каковые продаются в аптеках для страдающих ушными заболеваниями, и гундосил свою песенку, выделывая после каждого куплета какой-то затейливый перепляс и размахивая своим орудием: