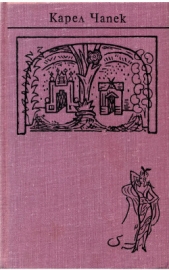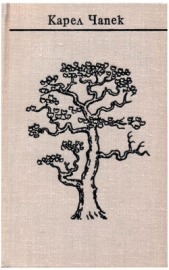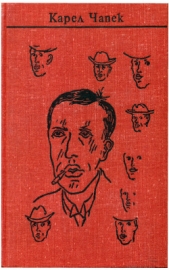Жизнь и творчество композитора Фолтына

Жизнь и творчество композитора Фолтына читать книгу онлайн
Роман «Жизнь и творчество композитора Фолтына» — последнее крупное произведение выдающегося чешского писателя Карела Чапека (1890–1938). Безвременная смерть прервала работу Чапека над этим романом, он был издан в незавершенном виде с послесловием жены писателя Ольги Шенпфлуговой, попытавшейся по рассказам мужа передать замысел произведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда мы поженились, о смерти, конечно, больше речи уже не было. Наши обставили нам прекрасную квартиру в шесть комнат — это папенька постарался; пан Фолтын прохаживался по ней в шелковом халате и сиял. По нему было заметно, что ему нравится быть богатым, и он потрясающе умел держаться. Лучше даже, чем если бы он в этом богатстве родился. Он так естественно принимал свое благополучие и все эти дорогие, роскошные вещи; и деньги он полюбил, но как ни любил он пышность, а сразу начал следить, чтобы зря деньги не тратили и прислуга чтобы на всем экономила, и вообще. Я уже опасалась, как бы он не сделался скупым, но наши говорили: оставь его, наоборот, это очень хорошо, состоятельные люди должны уметь экономить. Им только хотелось, чтобы он скорее сдал экзамены на доктора. Но первый год был вроде как довый месяц, так что об этом никто и не заикался. Иногда только пан Фолтын сам заговаривал об этом — покашляет так и посетует, что он всё еще не очень здоров, учение его доконает… Вообще мы просто диву вались, как он вдруг стал дрожать за свое здоровье. Чуть чихнет — сразу в постель, и ходить мы за ним должны были, как за малым ребенком. Конечно, с заботами о здоровье он малость перестарался, но у зажиточных людей это бывает — такой панический страх перед болезнью смертью. А у меня было ощущение, что он больше принадлежит мне, когда я ставлю ему компрессы или готовлю питье. Так что я его в этом отношении, пожалуй, поощряла. И даже не заметила, что постепенно становлюсь его рабой; я поняла это, когда уже было поздно, когда началась его другая жизнь. Но что делать!
Музыкой он тоже теперь много не занимался. Иногда, правда, играл и поговаривал, что надо бы нанять самонаилучшего учителя, а то у него в левой руке какое-то не такое туше — да так и не собрался. Иногда, когда у него случалось хорошее настроение, он садился за рояль и играл нам что-нибудь; папенька бедненький слушал, умилялся и хвалил: «Ну, Бедржих, у тебя музыка прямо бисером рассыпается». Мне он нравился невыразимо, когда играл с таким пылом и встряхивал кудрявыми волосами. Я им гордилась и говорила себе: авось папенька оставит его в покое с этими докторскими экзаменами — к чему они Бэдику! Артисту степень совсем и не нужна. Потом он проводил рукой по волосам и с легкой торжествующей улыбкой вставал от рояля. Это были для меня счастливейшие минуты. А иной раз он закрывался в своем кабинете, и мы не смели его беспокоить: он говорил, что сочиняет. Тогда весь дом должен был ходить на цыпочках. Как-то ненароком я туда заглянула — он лежал на оттоманке, заложив руки под голову… Ну, и разъярился же он — мы-де не считаемся с его творчеством; схватил шляпу и хлопнул дверью. С тех пор, когда речь заходила об искусстве, ему никто уже не перечил, где там!
Но однажды пришел к нам папенька, поговорил сперва о том о сем, а потом вдруг прямо спрашивает пана Фолтына, когда, мол, вы думаете держать экзамен на доктора. Бедржих побледнел и встал.
— Пан Машек, — сказал он, — к вашему сведению, я решил посвятить себя исключительно искусству, и мне безразлично, нравится это кому-то или нет. Делайте что угодно, мне моя дорога ясна.
Взял шляпу и ушел. Папенька, конечно, рассердился — какое, мол, существование может обеспечить искусство? Не такой он дурак, чтобы всю жизнь кормить зятя. Он еще с этим субчиком поговорит, черт побери. Я, натурально, в слезы, и маменька тоже на сторону моего мужа стала. Она, бедняжка, все себя винила, что я за него замуж пошла, и притом ей льстило, что он ей десять раз на дню к ручкам прикладывался. Она уговаривала папеньку до тех пор, пока не уговорила, чтобы он не портил мне супружескую жизнь, и вообще композитор или там дирижер, хоть и не зарабатывает много денег, а в обществе занимает вполне солидное положение: он может стать профессором консерватории, например, или чем-нибудь еще. Папенька поворчал, но потом, видно, решил, что на его денежки кто-нибудь может заниматься и искусством. В то время принцесса какая-то убежала с музыкантом, такой позор был, но на музыкантах этот скандал оставил печать какой-то сомнительности и в то же время чего-то благородного. Короче говоря, папенька смирился с тем, что у него зять — артист, и больше об этом речи не заводил; только пан Фолтын давал понять, что он все-таки из другого мира, нежели наши.
С тех пор он велел называть себя маэстро. Маэстро Бэда Фольтэн, и не иначе. Мне это не нравилось: к нему обращались «маэстро Фольтэн», а ко мне — «пани Фолтынова», как будто я не жена ему а потом он стал приглашать к нам музыкантов и литераторов. Раз, а то и два в неделю у нас исполнялись квартеты или фортепьянные пьесы и гостей набиралось человек по пятьдесят — для молодой хозяйки это, прямо скажу, не шутка. Пан Фолтын принимал гостей в бархатном сюртучке с широким черным галстуком и золотой цепочкой на запястье. При гостях я должна была говорить ему «Бэда» и «вы», а он называл меня «пани Фолтынова», чтобы звучало благороднее. Иногда он уступал уговорам и сам играл что-нибудь, но своего ничего не играл, не хотел. Иногда исполняли первые сочинения молодых музыкантов, читали новые пьесы — это называлось «премьеры у Фолтынов» и стоило уйму денег, столько при этом съедалось и выпивалось. Артисты эти были по большей части очень милые, простые и скромные люди; правда, некоторые засиживались далеко за полночь и напивались — прошу прощения — вдрызг; как после этого выглядели ковры и занавески, насквозь пропахшие дымом, и передать невозможно. Мне это было не по душе, но пан Фолтын говорил: «Видишь ли, это артисты, к ним ты должна подходить с другой меркой, бывает, им иногда нужно напиться. Я по себе знаю, говорил он, что такое голод». Ему было приятно разыгрывать из себя мецената и вельможу. Бедржих очень любил с ними спорить; он почти ничего не пил, зато яростно дискутировал по вопросам современного искусства. Для меня это было чересчур мудрено, и я предпочитала уйти и лечь, но иной раз почти до утра было слышно, как разглагольствует мой супруг, а его собеседники что-то бормочут все более пьяными голосами. «Ладно, — думала я, — если это ему в удовольствие, со мной ведь не поговоришь о таких вещах…»
Вскоре бедный папенька скончался от удара. У нас был траур, и вечера прекратились. Пану Фолтыну очень их не хватало, и он стал встречаться с музыкантами и литераторами где-то в других местах. Я была даже рада, что он может немножко рассеяться; по правде сказать, в его артистическом обществе я никогда не чувствовала себя уютно и особенно после смерти папеньки как-то острее осознала, к какому миру принадлежу. Потом к моему мужу стали опять приходить всякие литераторы да музыканты; пан Фолтын говорил, что работает с ними, но я думаю, он давал им деньги взаймы. Иногда он намекал, что создает нечто грандиозное, и на целые сутки запирался в своем кабинете. Я боялась, как бы он снова не начал кашлять. Я ему говорила: прошу тебя, не работай так много, ведь тебе это не нужно, но уговоры мои очень его расстраивали. Ты понятия не имеешь, кричал он, что значит творить — истинный творец должен прямо сжечь себя в своем творении, должен принести ему в жертву все — свое «я», свою жизнь… А потом вдруг неделями ни за что не брался — только валялся на диване и бродил по улицам — это называлось «сосредоточиться». Тут я не разбираюсь — только, судя по тому, что я видела, творчество — весьма странное дело.
Вид у него был неважный; он часто обижался, выходил из себя по пустякам и говорил, что это артистический темперамент. Но я думаю, что-то его мучило. Он все твердил о своей работе — это, мол, труд его жизни. Это должна была быть опера, только чудно, что он называл ее то «Юдифь», то «Абеляр и Элоиза» — сейчас, мол, он сочиняет либретто, а потом сразу возьмется за музыку. В голове, мол, у него все уже готово, только записать. И вдруг, на тебе, он бросил все и исчез на несколько суток; возвратился бледный и как в горячке — вот теперь, говорит, я в подлинно творческом трансе. А потом опять как сквозь землю провалился, только оставил записку, что идет туда, куда влечет его призвание артиста. Можете себе представить мое состояние! А на другой день узнаю, что он убежал с одной заграничной певицей. Не буду ее называть- это была стареющая дива, крупная и толстая, похожая на кобылу, голос она уже теряла и ездила по свету волоча за собой остатки былой славы. Люди ходили на нее поглазеть и смеялись…